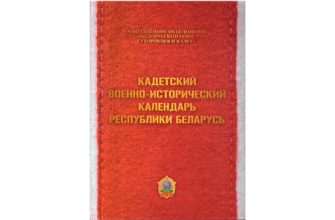ВЯЧЕСЛАВ БОНДАРЕНКО
ЧЕТЫРЕ СУДЬБЫ. ОДНА РОДИНА.
Роман
73
Сергей Семченко, 11 июля 1942 г., Шипка
Заупокойная служба закончилась. С начала года это были уже десятые похороны обитателей Русского инвалидного дома. Настоятель храма-памятника Рождества Христова отец Сергий степенно отошел от свежей могилы, давая возможность вдове покойного капитана Дмитрия Ивановича Бирюкова бросить горсть земли. За вдовой потянулись другие. Первым подошел заведующий приютом, выпускник 1-го Московского кадетского корпуса генерал-лейтенант Николай Эмильевич Бредов. Когда-то, в августе 1919-го, именно его 7-я пехотная дивизия выбил красных из Киева. Теперь же Николай Эмильевич был просто очень высоким, очень худым стариком с обвисшими седыми усами и орденом Святого Георгия 4-й степени на замусоленной ленточке.
Следом подходили по старшинству чинов – полковники, подполковники и войсковые старшины, дальше – капитаны, ротмистры и есаулы. Очередь Сергея Семченко подошла только минут через семь. И все это время он наблюдал за вдовой покойного офицера, которая стояла у могилы.
Это была худенькая востроносая старушка в седых куделёчках, одетая в ветхое голубое платье, сшитое, видимо, лет тридцать назад. Она стояла покорно, смирно принимая то, что ей было суждено. Еле шевеля губами говорила «Спасибо, спасибо…» каждому, кто подходил со словами соболезнования. Но было видно, что слов этих она не слышит и находится далеко отсюда…
Офицерская жена, теперь уже вдова… Где, когда ты повстречала своего суженого? На каком обеде, на каком провинциальном танцевальном вечере впервые улыбнулся тебе сероглазый поручик в парадном мундире?.. О чем мечтала ты, стоя с этим поручиком перед алтарем?.. Думала, что все закончится через сорок лет именно так – в далекой Болгарии, в окружении такиз же убогих и сирых?.. А ты все стоишь, старая, седая женщина, и во всей твоей позе, глазах написано: я приму и это, Господи. Я знаю, что Ты испытываешь любя…
 «А будет ли у меня такая женщина, которая заплачет над моей могилой?..» В последнее время Семченко все чаще задумывался на эту тему. И все чаще вспоминал свою первую, еще одесских времен любовь – Нину. Может, началось все с того давнего ночного разговора в палате, когда сосед поинтересовался у Сергея, бросали ли его в жизни. Странное дело, после этого Семченко начал вспоминать Нину значительно чаще, чем раньше. И обнаружил, что напластования лет совсем не смыли из сердца ее облик. Со временем ушли горечь, злоба, обида, чувство мести и появились мягкость, улыбка при теплых воспоминаниях, размышления: так почему же все-таки Нина так поступила?.. Просто так даже самые гадкие, плохие женщины не бросают своих возлюбленных, не прощаясь с ними. Значит, и он был виноват. Как-то не так себя вел, не то писал из училища… Вот Нина и не выдержала.
«А будет ли у меня такая женщина, которая заплачет над моей могилой?..» В последнее время Семченко все чаще задумывался на эту тему. И все чаще вспоминал свою первую, еще одесских времен любовь – Нину. Может, началось все с того давнего ночного разговора в палате, когда сосед поинтересовался у Сергея, бросали ли его в жизни. Странное дело, после этого Семченко начал вспоминать Нину значительно чаще, чем раньше. И обнаружил, что напластования лет совсем не смыли из сердца ее облик. Со временем ушли горечь, злоба, обида, чувство мести и появились мягкость, улыбка при теплых воспоминаниях, размышления: так почему же все-таки Нина так поступила?.. Просто так даже самые гадкие, плохие женщины не бросают своих возлюбленных, не прощаясь с ними. Значит, и он был виноват. Как-то не так себя вел, не то писал из училища… Вот Нина и не выдержала.
О ней он помнил лишь то, что сказал тогда старший брат: вышла замуж за иностранца и уехала за границу. Уже позже Лев уточнил — иностранец был австрияком. Смутно-смутно Сергей помнил, что у Нины была старшая сестра и вроде бы она тоже вышла замуж за австрияка, похоже, это у них семейное… Но что с ней, как сложилась ее судьба – Семченко даже и искать не думал. Фамилии в замужестве все равно не знаешь. Да и жива ли?.. Столько лет прошло. Великая война, 1920-е, 1930-е, теперь вот вторая война… У Нины, наверное, давно уже дети, взрослые парни. Если она вышла замуж в 1913-м, то дети могли родиться в 1914-м. То есть ее сыну или дочке сейчас 28, у них у самих уже наверняка дети.
 От этих глупых, не имеющих отношения к реальности мыслей Семченко даже на себя разозлился. Вот ведь дурак. Как сложились судьбы отца, старшего брата, Юрона, Карлуши – не знает, а о Нине, которая сама же бросила его еще в доисторическую эпоху, почему-то разволновался. Бред. При чем тут Нина?.. Можно подумать, она была бы ему хорошей и верной женой… А может, и была бы. Но если бы и стала она ему женой, как сложилась бы судьба семьи в Гражданскую?.. Живя в приюте, Семченко наслышался разных историй семейных трагедий 1918-20 годов и себе не желал бы такого. В такие периоды лучше уж самому – несешь ответственность только за себя. А когда ничем не можешь помочь жене и детям, когда История кидает тебя в один край, а их в другой, и все, что тебе остается, это кричать, плакать и молиться… нет, упаси Бог от этого.
От этих глупых, не имеющих отношения к реальности мыслей Семченко даже на себя разозлился. Вот ведь дурак. Как сложились судьбы отца, старшего брата, Юрона, Карлуши – не знает, а о Нине, которая сама же бросила его еще в доисторическую эпоху, почему-то разволновался. Бред. При чем тут Нина?.. Можно подумать, она была бы ему хорошей и верной женой… А может, и была бы. Но если бы и стала она ему женой, как сложилась бы судьба семьи в Гражданскую?.. Живя в приюте, Семченко наслышался разных историй семейных трагедий 1918-20 годов и себе не желал бы такого. В такие периоды лучше уж самому – несешь ответственность только за себя. А когда ничем не можешь помочь жене и детям, когда История кидает тебя в один край, а их в другой, и все, что тебе остается, это кричать, плакать и молиться… нет, упаси Бог от этого.
И всё-таки горько становится от мысли, что вот – будешь лежать где-то вдали от родной земли, и никакая вдова не будет стоять у твоей могилы с покорным и страдальческим выражением глаз. Русские офицерские вдовы… Сколько вас по всему миру?
Опираясь на костыли, Сергей тихонько запрыгал к выходу с кладбища. В голове потихоньку созревали мысли для очередного письма Панасюку.
Сергей Семченко – Ивану Панасюку, 11 июля 1942 г., Шипка – Бела Црква
«Здравствуй, дорогой братец Иванко, шлю тебе горячий кадетский привет со святых шипкинских гор!
Ну что у нас нового? Лето цветет и пахнет. Это хорошо, но худо, что война продолжается. Все наши взоры по-прежнему прикованы к России. Это ужасно, что там происходит. Как мы приободрились после того как были отбиты зимние атаки на Москву!.. И вот теперь летние ужасы. Намерения Хитлера понятны: он хочет южную нефть. Неужели теперь ареной основных боев будет Кавказ?..
Севастополь снова и снова покрывает себя славой. С таким волнением вспоминаю дни нашей эвакуации. Когда меня вынесли на носилках из санитарной повозки и понесли на корабль, я привстал на локтях и жалел, что не могу запечатлеть в памяти всё, всё, что вижу. Толпу на пристани, памятник Нахимову, гостиницу Киста… Думал, что впереди у всего этого – только гибель и беспросветность. А видишь как, 22 года спустя Севастополь снова звучит на весь мир как символ воинской славы и доблести. Читал, что немцы бьют по нему из своей гигантской 800-миллиметровой «Доры», но русские отвечают из береговых 305-миллиметровых батарей, и отвечают хорошо!..
Очень жаль Петербург. Страшно представить даже, что там происходит! Как можно было так бездарно дать окружить великий город! И теперь в улицах и проспектах, где проходила моя молодость, — голод и смерть.
Возмущает еще одно – поведение правительства Болгарии. Я до сих пор не пойму, зачем понадобилось объявлять войну Америке и Англии?! С какой целью?! Кому доставить удовольствие?!.. Ну ладно премьер-министр Филов – штафирка, университетский профессор, но ведь Царь Борис – военный, Он должен понимать, к чему приведет этот шаг! Неужели Он не может сообразить, что современные самолёты – это не те «Ильи Муромцы», на которых когда-то летал Ваш покорный слуга?!.. Сегодня самолёты спокойно долетают куда угодно и бомбят что угодно. Так что боюсь, это объявление войны еще аукнется для Болгарии большой кровью. Слава Богу, хватило ума не посылать армию в Россию (как не хватило ума у румын, венгров, финнов, словаков и хорватов), ну так на Америку-то с Англией что замахиваться?..
Извини, это волнует меня, поэтому высказываюсь. Накатило. Разволновался.
Как твое здоровье? Моё «все те же, все там же». Иногда мне кажется, что в ногах есть прогресс, но доктора в голос говорят, что это мне хочется так верить, потому и кажется. В принципе, они говорят, ничего невозможного нет, всякое бывало, и, допустим, если я испытаю какое-нибудь большое хорошее (или плохое) потрясение – могу на радостях и встать. Но что это за потрясение такое должно быть?! Ума не приложу. Тут у нас ничего не происходит, всё как всегда.
Пиши подробно, как дела в корпусе, какая в Югославии обстановка. Мы знаем лиш, что в Белграде создан Русский Охранный корпус. Несколько человек в него записалось и уехало, кто помоложе, да и по всей Болгарии, как пишут газеты, человек 2000 записалось. Как ты относишься к идее этого корпуса? Что у него за цели? Пиши, пожалуйста, брат, а то меня скучно и грустно и некому руку подать в минуту душевной невзгоды.
Засим обнимаю крепко,
Твой Полочанин Сергун».
Юрий Варламов – Сергею Варламову, 12 июля 1942 г., Москва – Рудобелка
«Здравствуй, мой дорогой сынок!
Пишу тебе из Москвы, из нашей опустевшей после гибели мамы квартиры. Если коротко – я жив, хотя меня и здорово потрепало. Начало войны я встретил в Ломже, потом с боями выходил из окружения. Под Минском в начале июля был тяжело ранен, долго отлеживался у местных жителей, после чего попал в партизанский отряд и воевал там до мая этого года. В мае был самолетом вывезен в Москву.
Написал, и сам не поверил, что все это было, и все можно так коротко изложить.
О смерти мамы я узнал в Москве. Не буду писать о том, какие чувства испытал, и не буду тебя ни о чем расспрашивать. Скажу одно: ты поступил совершенно правильно, когда ушел на фронт. И теперь, когда я знаю, что ты с марта воевал в Белоруссии, мне становится немного легче на душе оттого, что мы мстили за маму вместе, на одной земле, которая для нашей семьи стала родной уже давно, еще с моего кадетского корпуса.
Сейчас мне предстоит длительная зарубежная командировка. Она не связана с опасностями, на фоне всего, что было – это просто отдых. Так что не волнуйся за меня. К сожалению, связь будет поддерживать невозможно – уж больно это далеко. Но как только я вернусь – сразу же напишу тебе.
Пожалуйста, не лезь на рожон, не суйся под пули зря. Прошу тебя как отец. Ты нужен и мне, и стране живым, а фашистов, к несчастью, еще много ходит по земле.
К сожалению, не знаю, где сейчас тетя Юля. Удалось выяснить лишь, что она эвакуировалась из Калинина в Куйбышев.
Обнимаю тебя и целую крепко,
Твой отец подполковник Юрий Варламов.
Г.Москва, 12.07.1942 г.»
Юрий Варламов – Карлу Петерсу, 12 июля 1942 г., Москва – Северо-Западный фронт
«Дорогой мой братик Карлуша.
Если в двух словах – я жив (хотя и был ранен, но выкарабкался) и снова в Москве после почти годовой беготни по вражеским тылам. Как только мне сообщили, что ты жив и воюешь, сразу сел за письмо.
Как ты? Через что провела судьба? Как Лика? Как Ивар?
Мой сын воюет в партизанском отряде на юге Белоруссии. Жена погибла в октябре во время бомбардировки Москвы. Жива ли сестра – не знаю…
Мои чувства по этим поводам тебе, думаю, понятны без слов.
Я в ближайшем будущем уезжаю в длительную командировку. Связь оттуда будет поддерживать невозможно. Но сразу же как смогу – выясню, где ты и напишу. Ты же пиши на адрес Главного Разведуправления Генштаба, там передадут.
Хотелось бы крепко тебя обнять да выпить с тобой граммов четыреста за всех, кого мы любили и любим. Мысленно делаю это и обещаю тебе закончить эту войну живым и здоровым. Ты тоже мне это обещай.
Помнишь клятву у Святой Софии? Это было как в прошлой жизни, но я помню каждое слово. Кадеты – всегда рядом, даже через тысячи верст.
Обнимаю и целую тебя,
Твой брат Юрон».
(Это письмо не нашло своего адресата – 29 июля 1942 года на подлете к Старой Руссе самолет, который вез почту в части Северо-Западного фронта, был сбит.)
Иван Панасюк – Сергею Семченко, 27 июля 1942 г., Бела Цкрва – Шипка
«Дорогой мой Сергуша, привет из Белой Церкви.
Только что притащился с огородов. С продуктами в корпусе совсем беда: жиров в городе нет, 100 граммов мяса в неделю для кадет это праздник. Поэтому заводим свои огороды прямо во дворе корпуса и на специально арендованных участках. Земля очень плохая и тяжелая, никто ее не обрабатывал. Больше всего сажаем картофеля, чуть меньше – помидоров и еще меньше – лука. И фруктовые деревья разных сортов. Попов ввел в корпусе трудовую повинность: все кадеты обязаны отработать свое в огороде и саду. Но ребятам это, как ни странно, нравится, никто не отлынивает, никого не приходится заставлять. Работают с удововльствием, закрепили за собой отдельные деревья и тщательно за ними ухаживают.
Занятия у нас заканчиваются 1 августа, а там дней 10 продлятся экзамены. К выпуску в этом году допускаются 17 кадет.
Конечно, после того как нас в апреле вышвырнули в здание женского института, жить стало гораздо тяжелее. Места впятеро меньше. В столовую кадеты ходят в две смены, иначе никак. И стены чужие. Раньше-то мы были в нашем, кадетском, намоленном месте, с начала 1920-х! А теперь… как нахлебники.
Позавчера в корпус пришло известие о том, что немцы будут изымать музыкальные инструменты для нужд армии. Попов поступил умно: велел все хорошие инструменты просто спрятать, а немцам отдать то, что не надо нам самим. В итоге те пришли, походили-походили, забрали 9 старых негодных инструментов и ушли, а потом 7 инструментов нам вернули.
Общая обстановка у нас тяжелая. О трудностях с едой я уже писал. Хуже и то, что по всей бывшей Югославии катится тяжелая внутренняя война. Здесь вышло на поверхность всё плохое, что прятал внутрь король Александр. Хорваты-усташи создали свое государство, где действуют чудовищные законы, как у немцев. Сербов хорваты либо зверски убивают, либо в лучшем случае насильно крестят в католичество. Так же преследуют евреев и цыган. У моего домохозяина живет племянница Стана Мирчич – она чудом выжила летом прошлого года в Хорватии, во время резни в православном храме. Тогда хорваты убили всех как скотов, а Стану Бог спас, не иначе. Теперь вот она здесь, учительствует и до сих пор кричит по ночам во сне.
Сербы в ответ мстят хорватам. Партизаны-коммунисты Тито считают, что разницы в вере и нациях быть не должно, а все должны бороться за советскую Югославию. Четники Михаиловича воюют за возвращение короля, против коммунистов, нацистов и усташей.
Вот в такой обстановке действует Русский Охранный корпус. Он сражается против партизан-коммунистов, охраняет дороги и проч. Записываются туда как наши ровесники, так и молодежь, в том числе и выпускники нашего корпуса.
Дать общий мотив очень сложно: мотив у каждого свой. Кто-то ненавидит коммунистов, кто-то – усташей, кому-то надо просто жить и где-то получать жалованье, кто-то считает, что рано или поздно корпус перебросят на русский фронт и уж тогда сбудется его мечта – бить русских большевиков.
Очень многие рассуждают так: «Дают немцы деньги и оружие – берем и внешне вроде как будем им подчиняться. Но при первой же возможности и деньги, и оружие пригодятся где угодно. Может, и против самих немцев».
Командует корпусом генерал Штейфон. Я его видел в Белграде прошлой осенью. Он имеет большие виды на кадет в плане пополнения корпуса. Здесь у меня положение двойственное. С одной стороны, не хочу, чтобы наших ребят считали пушечным мясом и, будь что, первыми кинули бы под советские танки. С другой стороны – а зачем еще мы их растим? Зачем вообще действует наш корпус? Для борьбы с большевизмом. Не для того же, чтобы вкладывать в ребят, учить их, а когда пришло время борьбы, сказать: ну нет, это не для вас, вас еще надо беречь.
В общем, на душе очень грустно, муторно и непонятно. Гуляешь вечерами по парку, а вокруг гул голосов: русские, немцы, сербы, венгры… И все по-своему, все о своем. Вот такое же у меня в голове. Что дальше будет? Как жить? К чему стремиться?..
Молиться – молюсь, но и молитва не на долго облегчает. Как-то хуже стало молиться с годами. В молодости помогало действительно сильно. А сейчас уж не то. Иногда думаю даже в минуты слабости: может, и хорошо, что жена с Павлушкой не дожили до этих страшных дней и лет?
«Неужели ты потерял надежду?», спросишь ты. Нет, не потерял. Но мысли становятся все спокойнее. Прямо как в Полоцке перед экзаменами. Тут уж будет или так, или так, — чего волноваться-то. Либо живы, либо нет. Если живы, увижу я их вряд ли. Павлушке сейчас было бы 24, представить сложно. Мы с тобой в наши 24 уже переживали 1917 год…
Ну ладно, разнылся что-то я на бумаге, как баба. Держись, мой дорогой братик, обнимаю тебя крепко и прошу кланяться святым для каждого русского сердца могилам Шипки.
Твой брат по Полоцку навсегда,
Иванко Панасюк».
Сергей Варламов – Юрию Варламову, 28 июля 1942 г., Рудобелка – Москва
«Дорогой мой папочка!
Я знал, я верил, что ты жив! Верила в это и мама до последнего дня. И вот – мы были правы вопреки всем скептикам, которые нас разуверяли…
Более того, хочешь верь, хочешь нет, но когда наш отряд двигался ночами по Белоруссии в январе этого года, меня не покидало чувство, что ты здесь, рядом, на этой земле. И ведь не ошибался, ты действительно был в Белоруссии, и мы разминулись с тобой, может быть, всего на какую-то сотню километров!
После начала войны мама круглые сутки пропадала в госпитале. Я же работал на разгрузке дров в порту, а ночами дежурил в комсомольско-молодежном взводе ПВО на крышах нашего и соседнего домов. До сих пор себя проклинаю за это. Ведь не дежурь я в ту ночь, и мама не пришла бы на крышу. До сих пор не знаю, зачем она это сделала, но, вероятно, забеспокоилась, захотела проверить, цел ли я. Ее сбило воздушной волной от «зажигалки» на мостовую. Сам я этого не видел – помогал вынести из квартиры тяжелобольного старика. Потом поднимаюсь на крышу, а там все ребята уже смотрят на меня со слезами на глазах и говорят: прости, не уберегли…
После этого я не мог оставаться в нашей квартире и вообще в Москве. Наш отряд, который формировался как раз в эти дни, стал для меня спасением. Круглосуточные занятия не давали думать ни о чем плохом, а ребята поддерживали как могли.
Потом был лыжный переход из-под Наро-Фоминска в Полесскую область. Мозоли от лыж на ногах, наверное, не пройдут никогда! Но – дошли без потерь и даже привели двух пленных. Вернее, двух бывших лейтенантов Красной Армии, которые попали в плен еще летом, а теперь перешли на нашу сторону. Кстати, именно с ними я принял боевое крещение, когда мы отбивали атаку карателей в ночном лесу где-то под Крупками.
Теперь я воюю в большой партизанской бригаде «Красный Октябрь», которая полностью контролирует большие территории на юге Белоруссии. Фашисты не раз пытались и пытаются сюда сунуться, но встречают такой отпор с нашей стороны, что откатываются не солоно хлебавши. Если бы ты меня встретил, то, наверное, просто не узнал бы. Где московский школьник? Вместо него лихой партизан в застиранной добела гимнастерке и трофейных немецких брюках, с автоматом на шее и гранатами на поясе. Бью гитлеровских собак, как только могу. Мщу за маму, за твои раны, за всю нашу прежнюю порушенную жизнь. Жаль, не могу тебе послать фотографию!..
Дорогой папа! Войне конца-краю не видать, особенно у нас, но я все-таки верю в лучшее. Верю, что рано или поздно мы встретимся с тобой. А пока – пожалуйста, держись. Мама не любила нытья, и я сам тоже стараюсь не раскисать.
При первой же возможности пиши.
Обнимаю и целую тебя,
Твой сын Сергей»
Ивар Петерс, Павел Панасюк, Сергей Варламов, 20-27 июля 1942 г., Рига – Минск
В банкетном зале здания, расположенного по адресу улица Кришьяна Барона, 99, стоял дым коромыслом. За большим столом, накрытым так, будто нет никакой войны, шумела большая развеселая компания мужчин, самому старшему из которых не было и сорока. Среди них преобладали носители разнообразных военных мундиров. На некоторых была форма старой латвийской армии, дополненная нарукавной повязкой с изображением черепа и костей, на других – черная форма так называемых «Общих СС», на третьих – элегантные серые мундиры СС, на четвертых – полевая форма СС, очень похожая на форму вермахта, если не считать петлиц и других орлов. С портрета на стене внимательно смотрел на все происходящее Гитлер. В углу патефон воинственно гремел каким-то задорным маршем.
Руководил застольем Викторс Арайс. Облаченный в новенький полевой мундир со знаками различия майора, он сидел во главе стола и время от времени предоставлял слово тому или иному гостю. Спиртные напитки лились за столом рекой: пить в «команде Арайса» умели и любили…
— Друзья, слово имеет Карлис Озолс! – объявил Арайс.
Раздались аплодисменты. Озолс, в прошлом студент юрфака и знаменитый латвийский шахматист, ныне командир 5-й роты, поднялся из-за стола с рюмкой в руках.
— Друзья! Сегодня мы прощаемся с нашей родной Ригой. Завтра начинается наша первая командировка за пределы Латвии. Это будет серьезный экзамен для всех нас. Здесь мы уже от души поквитались с теми, кто всегда мучил и ненавидел латышей, — с жидами и коммунистами. Значит, пора показать, как мы умеем работать, и в других местах. Пускай узнают на своей шкуре наши враги, каково это – столкнуться с нашим гневом и местью! За Латвию!
 — За Латвию! – дружно отозвался стол.
— За Латвию! – дружно отозвался стол.
— За Латвию! – воскликнули в том числе Ивар Петерс и Адолфс Скулбе.
Оба сидели за столом неподалеку от Арайса.
Чокнувшись со Скулбе, Ивар опрокинул в рот очередную рюмку шнапса и потянулся за французскими сардинами. Как всегда, когда он выпивал, мир вокруг начинал казаться ему прекрасным и дружелюбным, а все эти люди, галдящие за столом, — лучшими друзьями. Мирвальдс Лавиньш, Александрс Ванагс, Петр Станкевич, Имантс Гайлис, Висвальдис Гринцевичс, Петерис Бутлерс, Харитонс Локманис, Владислав Балалайка, Зигфрид Зикелис… Все они уже были неразрывно повязаны между собой кровью – чужой кровью, реками крови. И потому могли спокойно общаться и смотреть в глаза только себе подобным, на таких вот банкетах.
За месяцы, прошедшие с начала оккупации Латвии, любительская «команда Арайса» постепенно выросла во вполне официальную Латышскую полицию безопасности, сокращенно – зипо. C массовых убийств евреев ее постепенно переключили на другие участки «работы» — выявление «нежелательных элементов», проведение арестов и первичных допросов перед передачей арестованных в следственный подотдел, наблюдение за подозрительными гражданами. Но Арайс все-таки настоял на том, чтобы служащие зипо принимали участие и в карательных акциях. Так, члены его «команды» активно участвовали в «чистках» рижского гетто 30 ноября и 8 декабря 1941-го. К концу года из 32 тысяч узников гетто в живых осталось только 4800 – остальные были убиты в Румбульском лесу…
Ивар Петерс смутно помнил эти два дня – 30 ноября и 8 декабря 1941-го.
 Это были дни скорбных людских верениц, тянущихся куда-то по снегу, устилавшему Латгальское предместье, пятен крови на этом снегу, ледяного ветра с Даугавы, остервенелого собачьего лая и выстрелов. Хорошо запомнилось только то, что если 30 ноября люди выходили из переполненных квартир гетто покорно, как овцы, то 8 декабря они то и дело оказывали сопротивление. Там и сям вспыхивала стрельба, приходилось выламывать двери, пристреливать самых буйных прямо на месте… Ивар помнил, что это бесило его – какого черта нужно тратить силы на то, чтобы сломить сопротивление этих скотов?..
Это были дни скорбных людских верениц, тянущихся куда-то по снегу, устилавшему Латгальское предместье, пятен крови на этом снегу, ледяного ветра с Даугавы, остервенелого собачьего лая и выстрелов. Хорошо запомнилось только то, что если 30 ноября люди выходили из переполненных квартир гетто покорно, как овцы, то 8 декабря они то и дело оказывали сопротивление. Там и сям вспыхивала стрельба, приходилось выламывать двери, пристреливать самых буйных прямо на месте… Ивар помнил, что это бесило его – какого черта нужно тратить силы на то, чтобы сломить сопротивление этих скотов?..
Словом, зима выдалась нелегкой. Зато теперь Ивара включили в состав особой группы, направлявшейся со спецзаданием в Белоруссию. Куда именно, пока не говорили. Но в любом случае съездить было бы любопытно.
Скулбе подтолкнул соседа локтем:
— Викторс берет слово. Давай послушаем.
Поднялся с места сам Арайс.
— Друзья, уже год, как мы служим и воюем вместе. Из крестьян, рабочих, студентов и учеников выросли солдаты, которые смело стоят в борьбе против разрушителя европейской культуры – большевизма. Грудь многих уже украшают знаки чести и геройства. Мы были первыми, кто надел серую форму и вместе с немецкими солдатами грудью встали против великого врага.
Наша работа была бы невозможна без неоценимой помощи тех патриотов, которые не жалеют личных сил и средств для нас. Сегодня здесь находится один из таких патриотов – известный фабрикант Аугустс Озолиньш…
 Арайс похлопал вальяжно сидевшему на краю стола полному немолодому мужчине. Тот благодушно кивнул, принимая аплодисменты в свой адрес.
Арайс похлопал вальяжно сидевшему на краю стола полному немолодому мужчине. Тот благодушно кивнул, принимая аплодисменты в свой адрес.
— В свои ряды мы включили лучших латышских юношей. Наш народ гордится этими своими сыновьями, которые безбоязненно взяли в руки оружие. Эта дружба по оружию с немецкими солдатами навеки останется непоколебимой. И неслучайно наши новобранцы проходят подготовку в лучшей европейской школе – Фюрстенбергской школе СД.
Сегодня мы провожаем в командировку наших лучших из лучших – тех, кто не на словах, а на деле доказал, что благо Латвии для него выше всего. И будет логично, если напутственное слово им скажет командир полиции безопасности и СД в Латвии штурмбаннфюрер СС доктор Рудольф Ланге. Прошу вас, штурмбаннфюрер!
Снова раздались аплодисменты. С места поднялся сидевший рядом с Арайсом ничем внешне не примечательный офицер СС лет тридцати с небольшим. У него были большие оттопыренные уши и ранняя лысина.
— Господа, я буду краток, — негромко произнес Ланге. — Желаю вам успешной командировки и точного выполнения задач, которые будут перед вами поставлены. Помните, вы служите великим целям – избавлению человечества от еврейства и коммунизма. Пусть враги Великой Германии содрогнутся перед вашей мощью. Хайль Гитлер!
— Хайль! – хором отозвались все присутствующие.
…Из Риги «команда» выехала 20 июля. Через четыре дня она прибыла в Минск и два дня, 24 и 25 июля, «принимала» в двадцати километрах от города партии евреев, привезенных для уничтожения из Австрии, Чехословакии и Румынии.
Глубокой ночью с 25 на 26 июля латышских полицейских рассадили по грузовикам, и они направились в Минск. В 4 часа утра «команда Арайса» въехала в узкие улицы минского гетто. Покачиваясь на деревянной лавке, Ивар Петерс с любопытством поглядывал по сторонам. Он ожидал увидеть такие же, как в Риге, дома в четыре-пять этажей, но видел другое – низенькие, одно- или двухэтажные домишки, у многих из которых первый этаж был каменным, а второй деревянным. Узкие серые улочки, обнесенные «колючкой», грозные объявления о том, что огонь открывается без предупреждения… У православного храма «Мерседесы» свернули направо и с ревом начали забирать в гору. Минут через пять остановились на какой-то площади, судя по виду – базарной.
 Окружающие площадь убогие домишки спали. Живущие там измученные люди еще не знали, что им было уготовано.
Окружающие площадь убогие домишки спали. Живущие там измученные люди еще не знали, что им было уготовано.
Полицейские выгрузились, построились поротно. Две роты, одной командовал Карлис Озолс, второй – лейтенант Скамбергс (с ним Ивар не был знаком и потому знал его только по фамилии). В большой трехосной «Татре» прибыло еще человек 50 немцев из местной, минской СД.
Посреди площади стояли пять фургонов на шасси огромных МАНов. С виду машины как машины. Но вышедший вперед немецкий оберштурмфюрер СС из минской СД пояснил, что к чему:
— Вы видите перед собой специальные автомобили, предназначенные для ликвидации неполноценных. Ваша задача проста – вы помещаете в кузов столько евреев, сколько сможете, и закрываете дверцу, а дальше уже дело техники. Всё понятно?
— Так точно, — отозвались латышские полицейские.
— К выполнению задачи приступить!
Задачу латышским полицейским поставили еще по дороге, поэтому они выполняли ее быстро, чётко и без суеты. Одни вытянулись в цепочку вдоль колючей проволоки, другие начали врываться в дома, будить людей и выгонять их на базарную площадь.
 Ивар Петерс в числе других врывался в квартиры, хватал стариков за бороды, а женщин – за волосы, вышвыривал из постелей плачущих детей, вытаскивал их на площадь и вталкивал в кузова фургонов. В каждую машину помещалось человек 100. Когда фургон наполнялся, Ивар захлопывал дверь, и водитель включал мотор на нейтральной передаче минут на десять. Когда в кузове машины прекращалось движение, грузовик уезжал и нужно было ждать, пока он вернется за следующей партией. Кто-то сказал, что трупы увозят километров за двадцать от Минска, так что каждую машину нужно было ждать около часа…
Ивар Петерс в числе других врывался в квартиры, хватал стариков за бороды, а женщин – за волосы, вышвыривал из постелей плачущих детей, вытаскивал их на площадь и вталкивал в кузова фургонов. В каждую машину помещалось человек 100. Когда фургон наполнялся, Ивар захлопывал дверь, и водитель включал мотор на нейтральной передаче минут на десять. Когда в кузове машины прекращалось движение, грузовик уезжал и нужно было ждать, пока он вернется за следующей партией. Кто-то сказал, что трупы увозят километров за двадцать от Минска, так что каждую машину нужно было ждать около часа…
Вскоре акция наскучила Петерсу. Она была нудной и однообразной: одинаковые бороды, пейсы, котелки, какие-то растрепанные безобразные женщины, гомонящие на своем языке, грязные, воняющие дома… Ивар попробовал было по примеру других искать в опустевших квартирах ценности, но и от этого ему быстро стало скучно. Солнце поднялось высоко и начало припекать. Хотелось пить, хотелось тишины, хотелось какого-то смысла в происходящем, а его Ивар не видел, как ни старался.
— Петерс, будешь обедать? – окликнул его Скулбе. – Обед привезли!
— Ну пойдем, — вяло отозвался Ивар.
Все пять душегубок как раз ушли за город с очередной партией. Обед для латышских карателей накрыли на свежем воздухе, неподалеку от базарной площади. Кроме первого, второго и кружки кофе, выдали также шнапс.
— Ты чего такой невеселый? – спросил у Ивара Скулбе.
— Даже не знаю… Как-то перестаю видеть во всем этом смысл…
— Не понял, — нахмурился Скулбе.
Ивар вяло ковырялся вилкой в рубленом шницеле.
— Ну если в Риге я понимал, что чищу свою землю от нечисти, то какое отношение к Латвии имеют эти евреи? Пусть с ними разбираются местные, а не мы.
— Местные не хотят, в том-то и дело. А делить евреев на своих и чужих – пустое дело, ты же знаешь. Их нужно уничтожать всюду, где видишь…
Петерс снова усмехнулся, налил себе шнапса.
— Кем мы были, Адолфс, и кем стали, а?.. Учились на летчиков, а теперь…
— А теперь те, кто спасает Родину тогда, когда ее надо спасать, — серьезно ответил Скулбе. – Можно, конечно, сидеть в тылу, греть задницу и писать в газету о том, как нужно бить евреев и коммунистов. Но гораздо труднее и почетнее самому делать это… Я не узнаю тебя, друг, ты не заболел часом?..
Ивар раздраженно положил вилку, встал и вышел из-за стола.
Все раздражало его сегодня. Зачем он здесь, в этом скучном сером городе, далеко от своих краев?.. Почему он полдня врывается в квартиры людей, которых никогда не видел, и ведет их на смерть?.. И почему вообще он, лейтенант Ивар Петерс, профессиональный летчик-истребитель, занимается всякой чертовщиной?.. Разве об этом мечтал он в детстве, когда, радостно смеясь, бегал вместе с папой и мамой по пляжу на Рижском взморье?.. Какой же это был год?.. Кажется, 1923-й…
…Только у Шекспира злодеи действуют прямолинейно и откровенно. Только у него они говорят вслух: да, я – злодей, не могу без злодейства, живу ради этого, в этом моя суть! Дайте-ка еще людской кровью упиться!..
Не то с живыми людьми. Даже самый страшный злодей никогда не считает себя злодеем. Он обязательно придумывает обоснования для своей деятельности, может ее внятно и разумно объяснить, докажет вам, почему он прав, а его жертвы неправы и достойны наказания. То же было и с Иваром Петерсом. Ведь он вовсе не был каким-то чудовищным монстром. В том-то и состоял кошмар, что палачами, убийцами, чудовищами становились во время войны обычные люди, которые в мирное время были склонны к разным злодеяниям разве что в своих мыслях и фантазиях.
Ивар оправдывал свои действия местью за семью, поруганную Латвию и теми бедами, которые принесли на его землю евреи и коммунисты. Но всё это работало только в первые месяцы его службы в «команде Арайса». Чем дальше, тем больше он понимал, что занимается страшными делами уже без всяких обоснований и оправданий, «потому что так надо», потому что он стал простым и безмолвным винтиком какого-то чудовищного организма, пожиравшего все живое вокруг. И отчетливее всего он почувствовал это сегодня, в далеком Минске. Где я? Почему всё это творю? Разве для этого рождался я на свет?.. Эти вопросы задает себе даже самый закоренелый, самый жестокий преступник. Потому что даже в нем, где-то на самом дне, живет еще крошка людского, мучится, кричит, молится и взывает о спасении из бездны…
Почему-то сейчас Ивар Петерс с особенной ясностью видел перед собой лицо отца – там, в июне 41-го, на насыпи у эшелона, когда он махал ему руками и кричал: «Ивар, не ходи к ним!..» И впервые подумал о том, что, может, отец был и прав тогда? Может, не стоило бежать вслед за Скулбе к немецким десантникам? Может, все пошло бы тогда по-другому и он не стоял бы сейчас посреди минского гетто с карманами, набитыми чьими-то золотыми часами и царскими червонцами?
«Господи, — произнес Петерс про себя и сам испугался сказанному, — неужели всё необратимо? Неужели то, что я творил и творю, уже бесповоротно? Неужели мне нет теперь места среди обычных людей – тех, кто ходит по магазинам, слушает радио, готовит ужин для близких?..»
Ответить на эти вопросы он не сумел. На площадь, рыча моторами, уже поднимались со стороны Раковской улицы пустые фургоны-душегубки. Латышские полицейские торопливо заканчивали обедать, кое-кто доедал уже на ходу. Слышались резкие оклики команд. Как сквозь вату до Ивара донесся голос Карлиса Озолса:
— Петерс, что застыли? За работу!
Работа, работа… Да, смерть уже превратилась для него в тупую, тяжелую работу. А его руки нельзя было отмыть от крови при всем желании. Она уже въелась в его кожу…
…Время в засаде тянулось медленно, скучно. Одна радость, что тепло. В лесу было душно, крепко пахло нагретыми травами, жужжали пчелы: видать, недалеко был дикий улей.
— Внимание, — одними губами произнес пристально вслушивавшийся в тишину Андрей Рагоза, крепкий хлопец родом из-под Лоева, и поднял руку. Павел Панасюк уже знал – слух Рагозы не обманешь ничем, если что-то слышит – значит, так оно и есть.
 Грузовики шли на приличной скорости – видимо, немцы считали лес «партизанским»; мощные, похожие на быков, «Опели-Блитцы» подняли на лесной дороге такую пыль, будто и в самом деле двигалось стадо.
Грузовики шли на приличной скорости – видимо, немцы считали лес «партизанским»; мощные, похожие на быков, «Опели-Блитцы» подняли на лесной дороге такую пыль, будто и в самом деле двигалось стадо.
Все хлопцы в боевой группе знали, кто едет в этих грузовиках. О том, что творили в минском гетто латышские полицейские, в бригаде узнали очень быстро. От добровольцев отбою не было, и Павловский отбирал их лично. Каждый из тех, кто ждал сегодня в засаде возле лесной дороги, прошел уже не через одну такую акцию и был мастером внезапного нападения.
Среди партизан, отобранных для этой акции, были Сергей Варламов и Павел Панасюк. Павел и Михаил Миронов все еще проходили проверку в передовой линии – их посылали на самые опасные задания (естественно, под контролем проверенных людей). За время, которое прошло с марта 42-го, оба лейтенанта зарекомендовали себя как храбрые бойцы. Но в бригаде на них все еще продолжали посматривать косо. Всё-таки плен и переход на сторону противника никуда не спишешь. Так что Панасюку и Миронову ничего другого не оставалось, кроме как молча выполнять свои обязанности и стараться заслужить доверие новых товарищей по оружию.
Первый «Опель» показался в перспективе лесной дороги. Варламов еще раз для верности поводил туда-сюда стволом ППШ. От движения слегка хрустнула бумага отцовского письма, которое Сергей теперь всюду носил с собой и при первой же возможности перечитывал. Уже виден был красно-бело-красный флажок, трепетавший на крыле машины.
— Огонь!.. – прозвучала короткая команда.
Слитно ахнули первые выстрелы. Коротко, зло заработал ручной пулемет ДП. Сергей тоже начал бить короткими очередями. Цель хоть и в движении, но большая, стреляй – не промахнешься.
В головном грузовике со звоном разлетелось ветровое стекло. С шипением рванулся воздух из простреленных скатов. На полном ходу «Блитц» свернул с дороги и врезался в дерево. Рядом с кузовом грузовика рванула граната.
Надо отдать должное водителям – они не растерялись и продолжали ломить дальше, увеличив скорость. Второй грузовик мастерски обошел первый, за ним последовали другие. Партизаны яростно стреляли по колесам машин. С простреленных скатов летели клочья резины. Каратели отвечали из кузовов беспорядочными выстрелами. Видимо, они не привыкли вести бой в лесу.
— Уходят! – крикнул Панасюк. – На дорогу, за мной!.. Бей прицельно!..
Уже не скрываясь, бойцы выбегали на лесную дорогу и прицельно стреляли вслед уходящим машинам. Варламов опустился на колено в пыль и в режиме одиночного огня послал вслед последнему грузовику несколько пуль. От задних бортов летела мелкая щепа, от тентов – обрывки брезента. Каратели отвечали редким огнем. Но «Опели» уже проскочили опасный участок и удалялись, натужно ревя моторами.
Головная машина бессильно стояла на обочине, из-под капота грузовика валил пар. Убитый водитель лежал грудью на руле, рядом с ним на сиденье смирно сидел старший по машине с развороченной пулями грудью. Из кузова один за другим выпрыгивали с поднятыми руками полицейские. На них была разномастная форма со знаками различия СС. На дороге выросла горка выброшенного ими разномастного оружия. Английские «Ли-Энфилды», немецкие «Маузеры», русские трехлинейки.
— По-русски понимает кто-нибудь? – сумрачно поинтересовался Андрей Рагоза у пленных.
Латыши молчали. Может, не понимали по-русски, а может, делали вид, что не понимают.
— Ладно, в отряде допросим. По-немецки они точно шпрехают.
Трофейное оружие собрали, грузовик подожгли, а пленных погнали за собой в лес. Через секунду о быстром бое напоминал только горящий на обочине «Опель-Блитц» с разбитым лобовым стеклом и покорёженными зеркалами заднего вида.
…- Терпи, Ивар, терпи, — приговаривал Адолфс Скулбе, осматривая рану Петерса. – Скоро мы уже будем в городе, там окажут первую помощь… Тебе еще очень повезло, пуля не задела никакие важные органы.
Грузовик снова тряхнуло на большой скорости, и Петерс мучительно застонал.
— Я, кстати, видел, кто именно в тебя стрелял, — проговорил Скулбе, стараясь перекрыть рев мотора. – Уже в конце, когда эти подонки выбежали на дорогу и открыли огонь не таясь… Это был совсем молодой парень. Стрелял из автомата ППШ, с колена, одиночными. Я на какую-то секунду встретился с ним глазами.
— Спасибо за ценное наблюдение, — простонал Петерс, — теперь буду знать, с кем расквитаться при случае…
Мотор «Опеля» ревел, над головой болтался брезентовый полог. Латышские каратели возбужденно и зло обсуждали итоги недавнего боя. Целый грузовик оказался в плену у русских партизан!.. Все были уверены, что живым от них никто не вырвется. Это дикие звери, которые рвут на части всех, кто попадает к ним в логово.
…Возвращались на базу молча. Павел Панасюк подошел к шедшему в середине колонны Сергею Варламову и подтолкнул его локтем:
— Ты чего сияешь в последнее время?
— Сияю? С чего ты взял?
— Я же вижу.
Сергей счастливо улыбнулся.
— Да я же письмо от отца получил… Он у меня без вести пропал еще в начале войны. И вот пришло письмо, представляешь? Отступал, был ранен, потом партизанил в Белоруссии… И вот недавно его самолетом перевезли в Москву. – Сергей помрачнел. – Он не знал, что мама погибла…
Павел вздохнул.
— Да, то, что отец нашелся – это здорово…
— А твой где? Воюет?
Панасюк зло мотнул головой.
— Нет. Умер он… еще до войны. Нет у меня отца, короче.
Юрий Варламов, 25 августа 1942 г., Нью-Йорк
Удивительная штука – человеческая память. Юрию Варламову казалось, что его пребывание в США стёрлось бесповоротно, что эти события больше не существуют для него. Как-никак прошло четверть века с того дня, когда он ступил на борт лайнера «Олимпик», увозившего его из Америки в Россию… Но вот что удивительно – едва Варламов увидел четкий, гордый силуэт великого города, стоящего над Гудзоном и Ист-Ривером, в его памяти мгновенно встали все подробности его американской эпопеи. И генерал Залюбовский, и Борис Бразоль, и встречи с бизнесменами, и сбор информации по Троцкому и работавшим в Америке большевикам… «И, в конце концов, именно это изменило впоследствии мою жизнь, — грустно усмехнулся Варламов. – Если бы не собранное здесь досье по Троцкому, вряд ли состоялась бы та памятная встреча со Сталиным в 1928-м. И вряд ли бы я вернулся на службу, тем более в разведку…»
Теперь, двадцать пять лет спустя, его путешествие в Америку проходило не по морю, а по воздуху. Вылетали на четырехмоторном бомбардировщике «Пе-8» с аэродрома Быково. В фюзеляже самолета были установлены несколько пассажирских кресел. Варламов и другие пассажиры – советские дипломаты, — облачились в меховые комбинезоны, выслушали инструкцию о том, как пользоваться кислородными масками. За бортом самолета было минус 50 по Цельсию, в самом фюзеляже тоже стоял собачий холод.
Вылетели в ночь на 19 августа. В пути были три посадки – на шотландском аэродроме Тилинг, в исландском Рейкьявике и на канадской авиабазе Гус-бэй. Во второй половине дня 20 августа «Пе-8» благополучно приземлился в Вашингтоне.
Конечно, во время перелета и Варламов, и другие пассажиры, направлявшиеся в Штаты, немного нервничали. Все-таки лететь предстояло над оккупированными территориями, Балтикой и Северным морем, где превосходство немецкой авиации и средств ПВО было подавляющим. Но всё прошло спокойно. Уже много позже Юрий Владимирович узнал, что немцы даже не смогли обнаружить советский самолет в своем воздушном пространстве…
По прибытию в столицу США Варламов представился представился послу СССР в США Максиму Максимовичу Литвинову – вернее, напомнил о себе, поскольку был хорошо знаком с Литвиновым еще во время службы в НКИДе в конце 1920-х. Затем он нанес визит военному атташе СССР в США 41-летнему полковнику Илье Михайловиче Сараеву. С ним Варламов тоже был близко знаком по довоенной поре. Сараев торопился и говорил коротко:
— Да, извещен о вашей миссии… Мне вы не подчиняетесь, работаете автономно, если что понадобится – обращайтесь немедленно, поможем. Вот мой прямой телефон, поскольку вы будете постоянно находиться в Нью-Йорке – звоните, не стесняйтесь…
Затем Варламов нанес визит 36-летнему майору Льву Александровичу Сергееву. Тот под псевдонимом «Морис» возглавлял в США собственную резидентуру, имевшую кодовое обозначение «Омега». Накануне отбытия Сергеева в США в 1940-м Юрий Владимирович консультировал его по некоторым вопросам. Встречались в привокзальном ресторане. Вскоре за столик к разведчикам подсел парень лет 25, по виду – обычный американец, в светлом плаще и шляпе.
— Ваш помощник Чейс, — представил Сергеев, — он же старший лейтенант Борис Иванович Грудинко. Вдвоем в Нью-Йорке будет веселее.
В столице Варламов не задержался. Ему предстояло работать в Нью-Йорке, и с первым же поездом он отправился туда.
С «Чейсом» заняли отдельное купе и начали работу, не откладывая дел в долгий ящик. Юрий Владимирович еще в Москве и во время полета изучил всю необходимую информацию по доверенному ему заданию, но теперь внимательно слушал нюансы, в которые посвящал его «Чейс» — многого ты никогда не узнаешь, если не живешь в стране, не слушаешь ее жителей, не читаешь местную прессу…
…Еще 28 февраля 1942 года заместитель начальника штаба армии США Дуайт Эйзенхауэр представил президенту Рузвельту доклад, в котором признавал возможным и нужным открытие второго фронта в Европе в текущем году. В докладе указывались и основные задачи: поддержка Великобритании и СССР, удержание позиций в регионе Индии – Средний Восток и сохранение Китая как союзника. Эйзенхауэр настойчиво доказывал необходимость немедленных и конкретных действий по оказанию военной поддержки СССР, во-первых, путём прямой помощи по «ленд- лизу» (поставки боевой техники, автомобилей, амуниции и продуктов) и, во-вторых,путем «скорейшего начала операций, которые отвлекут с русского фронта значительное количество наземных войск и воздушных сил Германии».
Эйзенхауэр писал: «Мы должны вместе с англичанами немедленно разработать план военных действий в северо-западной Европе…. Масштабы действий должны быть достаточно широкими, чтобы с середины мая мы могли сковывать всё большее количество Германской авиации, а к концу лета – всё большее количество Германских наземных войск». 1 апреля 1942 года Рузвельту был представлен план вторжения союзных войск в Западную Европу, подготовленный начальником штаба армии США генералом Маршаллом. Предусматривались совместные наступательные действии англо-американских вооруженных сил в Западной Европе и согласованный Советским Союзом удар по противнику. Вторжение в Северную Францию предполагалось начать весной 1943 года силами 30 американских и 18 английских дивизий. Рузвельт одобрил представленный план и в личном послании Сталину просил направить в Вашингтон для соответствующих переговоров советских представителей.
Но эти планы натолкнулись на противодействие премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля. На переговорах с наркомом иностранных дел СССР Молотовым в Лондоне в мае 1942 года Черчилль перечислял многочисленные трудности, делавшие невозможным быстрое открытие второго фронта. На заседании Молотов заявил, что на советско – германском фронте следует ожидать нового мощного удара германских войск, поэтому действенную помощь Советскому Союзу может оказать главным образом оттягивание некоторого количества немецких войск советско-германского фронта. Если это будет сделано летом-осенью 1942 года, то это позволит еще в этом году разгромить врага и приблизить окончательную победу. На это Черчилль сказал, что этот вопрос изучается Великобританией и США, но тут же добавил, что США не будут располагать необходимыми вооруженными силами ранее конца 1942-го, а у Англии и США не будут в этом году достаточного количества десантных средств. Переговоры о втором фронте, проходившие в Лондоне, были прекращены,
 29 мая Молотов прибыл в Вашингтон. Наряду с другими проблемами был рассмотрен вопрос о втором фронте. В ходе обсуждения вопроса не было недостатка в заверениях, что целью США и Великобритании является как можно скорее осуществить вторжение в Европу. Но на прямо поставленный Молотовым вопрос, будет ли осуществлено вторжение в 1942 году, Рузвельт и его советники каких-либо обещаний не дали, ссылаясь на недостачу транспортных средств для переброски американских войск и техники на Британские острова и через Ла-Манш во Францию. Рузвельт неоднократно подчёркивал: чтобы получить требуемый тоннаж, нужно сократить военные поставки Советскому Союзу.
29 мая Молотов прибыл в Вашингтон. Наряду с другими проблемами был рассмотрен вопрос о втором фронте. В ходе обсуждения вопроса не было недостатка в заверениях, что целью США и Великобритании является как можно скорее осуществить вторжение в Европу. Но на прямо поставленный Молотовым вопрос, будет ли осуществлено вторжение в 1942 году, Рузвельт и его советники каких-либо обещаний не дали, ссылаясь на недостачу транспортных средств для переброски американских войск и техники на Британские острова и через Ла-Манш во Францию. Рузвельт неоднократно подчёркивал: чтобы получить требуемый тоннаж, нужно сократить военные поставки Советскому Союзу.
Советское правительство все же надеялось, что США и Великобритания откроют фронт в Европе в 1942 году, и в целях стимулирования их действий в этом направлении согласилось сократить до минимума заявки на военные материалы и вооружения. 3 июня был согласован предложенный советской делегацией проект совместного советско-американского коммюнике, в котором указывалось: «При переговорах была достигнута полная договоренность в отношении неотложных задач создания второго фронта в Европе в 1942 году».
9 июня Молотов прибыл в Лондон, он в тот же день беседовал с Черчиллем. В этой и последующих встречах согласовывался проект совместного коммюнике. Черчилль принял согласованную с Рузвельтом формулировку. 12 июня советско-американская и советско-английская коммюнике были опубликованы в печати. Таким образом, американское и английское правительства дали обещание открыть второй фронт в Европе в 1942 году.
Однако за день до опубликования советско-английского коммюнике, 10
июня, Молотову была вручена английской стороной памятная записка,
содержавшая многочисленные условия и оговорки, призванные оправдать отказ от выполнения, взятого обязательства. По настоянию У. Черчилля 18-25 июня в Вашингтоне состоялась вторая англо-американская конференция. Главы правительств приняли решение отказаться от вторжения английских и американских войск в Западную Европу в 1942 году, ссылаясь на «неподготовленность» к осуществлению этих операций. Черчилль склонил Рузвельта взамен вторжения в Европу организовать широкое наступление англо-американских сил против итальянских и германских войск в Северной Африке. Эти решения ими были окончательно приняты в июле 1942 года.
Неблаговидную миссию сообщить советскому правительству о принятых за его спиной решениях Черчилль взял на себя. По указанию президента США вместе с британским премьером в Москву отправился Аверелл Гарриман. Они прибыли в Москву 12 августа 1942 года и в тот же день были приняты Сталиным и Молотовым. Черчилль заявил о невозможности организовать второй фронт в Европе в 1942 году и всячески преувеличивал значение готовившегося союзниками вторжения в Северо– Западную Африку (операция «Факел»), безуспешно стремясь доказать, что она-то и является будто бы вторым фронтом. Первая встреча, как писал Черчилль, прошла в «сердечной» обстановке, но вторая встреча 13 августа носила напряженный характер. Сталин вручил Черчиллю и Гарриману меморандум, в котором было изложено мнение советского правительства в связи с отказом Великобритании и США от выполнения своих обязательств по открытию второго фронта и подчёркивалось, что этот отказ значительно осложнил положение Красной Армии и нанёс значительный ущерб планам советского правительства. Черчилль отверг все обвинения и на следующий день вручил свой ответный меморандум. В нём было окончательно заявлено об отказе Великобритании и США открыть второй фронт в 1942 году, но было обещано вторгнуться в Европу весной 1943 года силами 27 американских и 21 английской дивизии.
Третья беседа Сталина и Черчилля состоялась 15 августа и носила примирительный и дружественный характер. Обе стороны выразили удовлетворение, что встретились, познакомились и подготовили почву для будущих соглашений. Черчилль информировал Сталина о планах проведения в августе 1942 года рейда на французское побережье, имеющего целью держать Германию в состоянии напряжения. Десант должен был находиться на французском побережье сутки, взять пленных и вернуться в Великобританию. На встрече также была достигнута договорённость о необходимости согласовывать налёты советских и английских бомбардировщиков на Берлин. Вот с такими картами на руках Варламов и вылетал из Москвы в Америку…
— Мнение Рузвельта и Черчилля нам уже не переломить, теперь главное – сделать так, чтобы второй фронт был открыт в 1943-м… — договорил Юрий Владимирович. — А для этого нужно подготовить общественное мнение Америки, выявить настроения крупного бизнеса и направить их в нужное русло. Наверняка в конце этого – начале следующего года союзники будут проводить конференцию, где определят стратегию на год вперед. Необходимо сделать так, чтобы к этой конференции политики США подошли, будучи уверенными в том, что для страны выгоднее открытие второго фронта. Иначе Европа просто может быть освобождена от Гитлера без участия Америки, а это влечет за собой серьезные последствия для нее.
«Чейс» усмехнулся.
— Вот что писала «Уолл-стрит Джорнэл» 26 июня 41-го: «Американский народ знает, что принципиальная разница между мистером Гитлером и мистером Сталиным определяется только величиной их усов. Союз с любым из них будет оплачен престижем страны», — медленно произнес он.
Юрий Владимирович поморщился.
— Это понятно… Но риторика – риторикой, а прагматики не могут не понимать, что, останься Америка в стороне от европейской кампании, и мы приобретем право на послевоенное переустройство Европы. На это и нужно напирать сейчас. Ситуация во многом повторяет Первую мировую, тогда Штаты тоже высадили свой контингент в Европе в 1917-м… Только второго Версальского договора мы не допустим, дипломатия у нас сегодня не чета русской дипломатии 1917-го.
И вот Нью-Йорк, суета вокзала Гранд Сентрал, неуловимо знакомая по воспоминаниям Пятая авеню, вот только автомобилей не ней стало еще больше. Рассматривая Нью-Йорк из окна машины, Варламов убедился, что город еще больше вытянулся в высоту – с 1917-го было построено множество новых небоскрёбов, среди которых выделялись своей красотой и «ростом» возвышавшийся по соседству с вокзалом Крайслер-билдинг и, конечно, Эмпайр-Стэйт-билдинг, самое высокое здание США и мира…
 Главный зал вокзала был украшен гигантским панно с изображением солдат, матросов, рабочих и мирных жителей, поверх которых красовались линкор, два танка и летящие самолеты, а в самом низу размещалась надпись, призывавшая прямо сейчас покупать оборонные облигации. В уличной толпе преобладали носители военной формы, да и одежда женщин смотрелась довольно скромно. Но в целом Нью-Йорк выглядел так, словно никакой войны не было. Стада желтых такси на улицах, огромные, во всю стену, светящаяся реклама фильмов и шоу на Таймс-сквер, звуки джаза, вырывавшиеся из открытых окон кафе… Как же был далек этот шумный беспечный город от всего, что творилось за тысячи километров отсюда – от Ломжи, логойских лесов, горящей под бомбами Москвы!..
Главный зал вокзала был украшен гигантским панно с изображением солдат, матросов, рабочих и мирных жителей, поверх которых красовались линкор, два танка и летящие самолеты, а в самом низу размещалась надпись, призывавшая прямо сейчас покупать оборонные облигации. В уличной толпе преобладали носители военной формы, да и одежда женщин смотрелась довольно скромно. Но в целом Нью-Йорк выглядел так, словно никакой войны не было. Стада желтых такси на улицах, огромные, во всю стену, светящаяся реклама фильмов и шоу на Таймс-сквер, звуки джаза, вырывавшиеся из открытых окон кафе… Как же был далек этот шумный беспечный город от всего, что творилось за тысячи километров отсюда – от Ломжи, логойских лесов, горящей под бомбами Москвы!..
Квартира, которая ожидала Юрия Владимировича, находилась на площади Мэдисон-сквер. И первое, что увидел Варламов, выйдя на свой балкон на 14-м этаже, был дом, старый, знакомый дом, похожий на треугольный кусок торта, который так же, как в 1916 году, гордо разрезал углом пересечение Бродвея, Пятой авеню и 23-й Ист-стрит, плыл куда-то, словно гигантский изящный корабль… Фуллер-билдинг, где находился когда-то офис русского Заготовительного комитета! «Как славно, что придется жить рядом с ним, — подумал Варламов. – Живое напоминание о прошлом перед глазами…» И тут же вздохнул. Когда он работал в этом здании, всё у него было еще впереди. Были живы родители, была жива и еще не была ему женой Лиза, не было на свете Сережки, воевали где-то братья по кадетскому корпусу – Сергун, Карлуша и Иванко…
 «Чейс» деликатно пожелал Варламову хорошего отдыха и удалился. О рабочей встрече условились назавтра. Юрий Владимирович принял душ, побрился, переоделся. Снова носить штатское, тем более американское, было непривычно – покрой здешних костюмов совсем не походил на советский.
«Чейс» деликатно пожелал Варламову хорошего отдыха и удалился. О рабочей встрече условились назавтра. Юрий Владимирович принял душ, побрился, переоделся. Снова носить штатское, тем более американское, было непривычно – покрой здешних костюмов совсем не походил на советский.
Остаток дня был свободным, и Юрий Владимирович, спустившись на Пятую авеню, взял такси. В тот день он побывал на последнем этаже Эмпайр-Стэйт-билдинг, откуда был виден весь город, и в тихом уютном Брайант-парке – зеленом пятачке, зажатом между каменными кварталами, — съездил проведать отель «Плаза», свое первое пристанище в Америке… И закончил день в Бэттери-парке. Здесь, на южном краю Манэхэттена, в 1916-м, насколько он помнил, росли только низенькие деревья, над которыми возвышались коробки небоскрёбов. Теперь же парк вытянулся ввысь, некоторые небоскрёбы были снесены, а на их местах появились новые, посовременнее и повыше. А те, которые уцелели, побурели от времени и выглядели архаично, как старые джентьмены на вечеринке выпускников…
По набережной Бэттери-парка гуляли люди. Смеялись хорошо одетые мужчины и женщины, бегали дети. С прогулочного парохода, совершавшего экскурсию по Ист-Ривер, сходили на берег оживленно болтающие пассажиры. С реки дул крепкий ветер, приятно освежавший лицо. Юрий Владимирович сел на скамью – лицом к Ист-Ривер, спиной к огромному городу.
 «Как же странно поворачивается судьба… Ломжа, отступление, день по горло в Птичи, ранение на разъезде Волчковичи, партизанство, Ваупшасов, самолет в Москву и могила на Донском кладбище… И вот – Нью-Йорк. А кто-то сейчас навсегда ложится в землю на подступах к Сталинграду, Новороссийску… или Старой Руссе. И, может быть, для победы над смертью им не хватает моего патрона, моей руки рядом».
«Как же странно поворачивается судьба… Ломжа, отступление, день по горло в Птичи, ранение на разъезде Волчковичи, партизанство, Ваупшасов, самолет в Москву и могила на Донском кладбище… И вот – Нью-Йорк. А кто-то сейчас навсегда ложится в землю на подступах к Сталинграду, Новороссийску… или Старой Руссе. И, может быть, для победы над смертью им не хватает моего патрона, моей руки рядом».
Злые мысли толкались в голове. Мимо шли беспечные люди. Их огромная страна тоже воевала, но беспокойства на их лицах не было видно. Вражеские армии не стояли на подступах к Вашингтону, а Нью-Йорк не задыхался от голода в кольце блокады. И в этом, 1942 году эта страна не собиралась открывать второй фронт в Европе, хотя совсем недавно еще обещала это сделать…