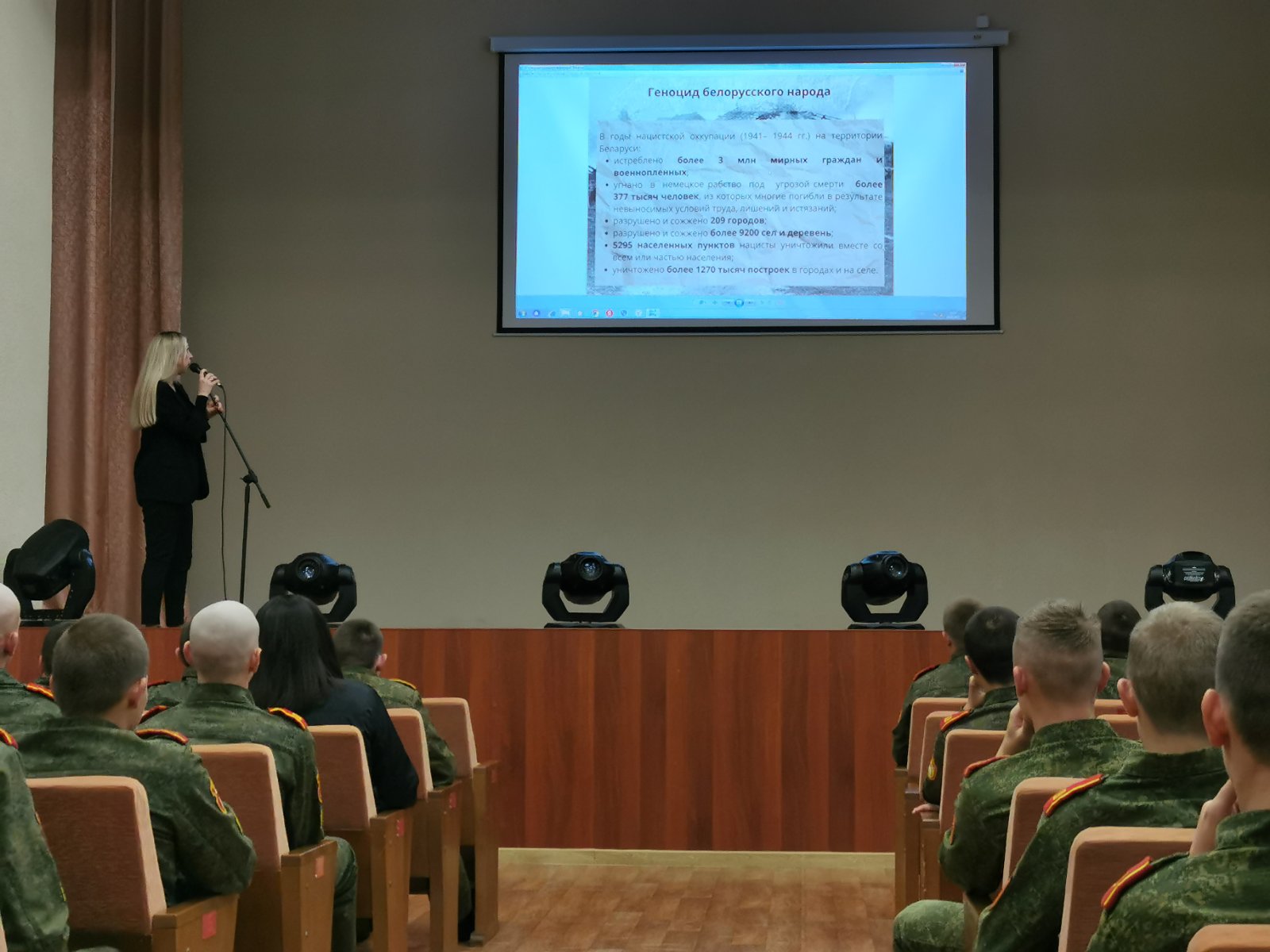ВЯЧЕСЛАВ БОНДАРЕНКО
ЧЕТЫРЕ СУДЬБЫ. ОДНА РОДИНА.
Роман
ДЕВЯТНАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ
50
Карл Петерс, 18 ноября 1939 г., Рига
Вечер 18 ноября в столице Латвии выдался промозглым и сырым. С Даугавы дул пронзительный ледяной ветер, подхватывавший волны холодного дождя и бросавший их в стены и окна домов. Большинство из них были ярко освещены – люди отмечали главный государственный праздник, День Независимости. Из многочисленных кафе и ресторанов Старой Риги доносились звуки музыки и раскаты нетрезвого смеха. Под ударами ветра и дождя вяло шевелились на стенах отсыревшие полотнища национальных флагов – белая полоса посередке и две, сверху и снизу – цвета венозной крови, который в английском языке носил название «Latvian red» — латвийский красный.
 Гостевой подъезд здания Военного министерства Латвийской Республики был ярко освещен. К нему один за другим подкатывали дорогие черные автомобили – немецкие «Хорьхи», «Ауди», «БМВ», «Адлеры» и «Боргварды», итальянские «ФИАТы» и «Лянчи», французские «Рено» и «Cитроены», американские «Линкольны» и «Кадиллаки», советские М-1. Швейцар ловко распахивал дверцы машин и раскрывал зонт над головами элегантных дам и их спутников в военной форме и штатском.
Гостевой подъезд здания Военного министерства Латвийской Республики был ярко освещен. К нему один за другим подкатывали дорогие черные автомобили – немецкие «Хорьхи», «Ауди», «БМВ», «Адлеры» и «Боргварды», итальянские «ФИАТы» и «Лянчи», французские «Рено» и «Cитроены», американские «Линкольны» и «Кадиллаки», советские М-1. Швейцар ловко распахивал дверцы машин и раскрывал зонт над головами элегантных дам и их спутников в военной форме и штатском.
В большом вестибюле гости сдавали в гардероб верхнюю одежду и направлялись к высоким белым дверям, где предъявляли отпечатанные на веленевой бумаге приглашения на прием. А стоявший в дверях высокий полковник-лейтенант армии Латвии с вежливой улыбкой приветствовал входящих. Ему так же вежливо улыбались в ответ, поздравляли с национальным праздником. Почти все приглашенные были давно знакомы с встречавшим и здоровались с ним за руку, вкладывая в приветствие и личное отношение. Каждому офицер отвечал на его родном языке.
— Thank you so much… Vielen Dank… Grand merci… Muchas grasias… Большое спасибо…
Некоторые гости прибыли уже слегка навеселе – это было видно по их раскрасневшимся щекам и излишне громкому смеху их спутниц. Но это и понятно: сначала побывали на правительственном приеме, а закончат вечер в Военном министерстве. Взяв предложенные слугами бокалы с шампанским и вином, гости разбредались по залу, приветствовали знакомых, сбивались в небольшие группки. Жены дипломатов тут же образовали свой кружок. Кое-кто уже нетерпеливо поглядывал в сторону столов с закусками, укрытыми до поры до времени кружевными салфетками.
Большие круглые часы на стене мелодично пробили шесть. Подполковник-лейтенант Карл Петерс подал знак своему помощнику-лейтенанту, и тот плавно закрыл входные двери. Неслышно появившиеся в углу зала музыканты расселись по местам, и все присутствующие послушно повернулись в их сторону. Раздались плавные звуки гимна «Боже, благослови Латвию». Разговоры смолкли, офицеры взяли под козырек.
 После того как отзвучал гимн, настало время для приветственной речи военного министра – генерала Яниса Балодиса. Он появился в сопровождении двух адъютантов из соседнего зала. Парадный мундир министра украшали многочисленные иностранные награды и красная с серебром лента высшего боевого ордена Латвии – ордена Лачплесиса. Рядом с Балодисом стояли другие руководители вооруженных сил страны – командующий сухопутной армией генерал Кришьянис Беркис и начальник штаба армии генерал Мартиньш Хартманис.
После того как отзвучал гимн, настало время для приветственной речи военного министра – генерала Яниса Балодиса. Он появился в сопровождении двух адъютантов из соседнего зала. Парадный мундир министра украшали многочисленные иностранные награды и красная с серебром лента высшего боевого ордена Латвии – ордена Лачплесиса. Рядом с Балодисом стояли другие руководители вооруженных сил страны – командующий сухопутной армией генерал Кришьянис Беркис и начальник штаба армии генерал Мартиньш Хартманис.
— Уважаемые гости! – звучным голосом произнес военный министр. – Сегодня Латвийская Республика отмечает двадцать первую годовщину своей независимости. За эти годы наша небольшая, но прекрасная страна заняла полноправное место в европейской семье. К сожалению, сейчас эту семью одолевают противоречия и раздоры…
Присутствующие деликатно молчали, с непроницаемыми лицами стояли и участники «противоречий и раздоров» — послы Великобритании, Франции и Германии. С 1 сентября 1939 года Европу после двадцатилетнего затишья снова сотрясала война. После того как нацистская Германия напала на Польшу, Берлину в свою очередь объявили войну Лондон и Париж. Но дальнейшие события развивались достаточно вяло. После того как Польша была разгромлена, французская армия и высадившийся во Франции британский экспедиционный корпус не предпринимали никаких действий, хотя, по оценкам всех аналитиков, могли легко разгромить слабый вермахт и дойти как минимум до Кёльна. Вместо этого французы и англичане просто стояли на западной границе Германии. Это бездействие французская пресса уже окрестила странной войной, английская – фальшивой, немецкая – сидячей.
Дипломаты враждующих государств, аккредитованные в Латвии, не общались друг с другом, но согласно протоколу продолжали бывать на одних и тех же мероприятиях. Их деликатно разъединяли «нейтралы», чтобы не доставлять немцам, французам и англичанам неприятных моментов.
— Мы надеемся, тем не менее, — продолжил Балодис, — что общими усилиями мы сможем преодолеть раздоры и вражду и восстановить в нашей общей семье мир и покой. Для этой цели трудитесь все вы, присутствующие сегодня в этом зале. Для многих из вас Латвия успела стать вторым домом, и я надеюсь, что вы полюбили этот гостеприимный и светлый дом… От имени военного ведомства Латвии и от себя лично я сердечно поздравляю всех нас с национальным праздником – Днем Независимости! И, по традиции, первый тост я поднимаю за здоровье нашего Вождя Нации, президента государства, министра-президента правительства и Верховного Главнокомандующего Карлиса Улманиса!
Зал потонул в общем приветственном гуле, звоне бокалов, веселых восклицаниях на разных языках.
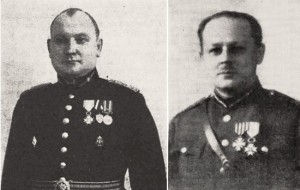 …Человеку, попавшему на такой прием впервые, все показалось бы здесь очаровательным, элегантным и захватывающе-интересным. Легкая музыка, вежливые улыбки, шутки, обмен ничего не значащими новостями, бриллианты на дамах и ордена на мужчинах, лакеи, разносящие шампанское… Когда-то и Петерсу все это было в новинку. Но теперь такие приемы были для него рутинной служебной обязанностью. В Военном министерстве он отвечал за сектор взаимодействия с иностранными военными атташатами и был обязан присутствовать на каждом приеме, на который приглашались аккредитованные в Латвии военные представители зарубежных стран. В число его обязанностей, кстати, входило и следить за тем, чтобы военные атташе враждующих государств ненароком не столкнулись друг с другом у столов с закусками либо в уборной.
…Человеку, попавшему на такой прием впервые, все показалось бы здесь очаровательным, элегантным и захватывающе-интересным. Легкая музыка, вежливые улыбки, шутки, обмен ничего не значащими новостями, бриллианты на дамах и ордена на мужчинах, лакеи, разносящие шампанское… Когда-то и Петерсу все это было в новинку. Но теперь такие приемы были для него рутинной служебной обязанностью. В Военном министерстве он отвечал за сектор взаимодействия с иностранными военными атташатами и был обязан присутствовать на каждом приеме, на который приглашались аккредитованные в Латвии военные представители зарубежных стран. В число его обязанностей, кстати, входило и следить за тем, чтобы военные атташе враждующих государств ненароком не столкнулись друг с другом у столов с закусками либо в уборной.
Воспользовавшись паузой, возникшей после первого тоста, Петерс жестом подозвал к себе помощника, молодого лейтенанта, и спросил, все ли гости на месте. Выяснив, что гостевой список «закрыт» полностью, Карлис вздохнул: предстояла самая нелегкая для него часть вечера.
Взяв с подноса бокал шампанского, он на минуту задержался перед большим зеркалом, врезанным в стену. На него взглянул из зеркала привлекательный, выглядевший моложе своих 47 лет офицер в парадном мундире, украшенном латвийскими орденами Трех Звёзд Латвии 5-й степени и Виестура 5-й степени и иностранными – итальянскими Святых Лазаря и Маврикия, литовским Креста Витиса и эстонским Орлиного Креста. На правой стороне груди размещались знак об окончании Офицерских академических курсов и старый, исцарапанный знак Полоцкого кадетского корпуса – он был Петерсу дороже всего. Ношение старых русских наград в Латвии было запрещено, поэтому ордена, полученные еще на Великой войне и спасшие ему жизнь во время расстрела на станции Карачево двадцать лет назад, Петерс хранил дома, в специальной шкатулке. Иногда, когда требовалось достать служебные документы, он открывал нижний ящик письменного стола и натыкался взглядом на эту шкатулку, лежавшую под грудой бумаг. И ощущал тогда в груди слабое сжатие, словно этим спазмом давало о себе знать давно уже ушедшее прошлое…
 Гражданскую войну 27-летний комроты Латышского стрелкового полка Карл Петерс закончил 14 ноября 1920 года в Евпатории. По итогам боев на Перекопе он был награжден массивными серебряными часами. А потом всем латышам, воевавшим в Красной Армии, было объявлено, что по желанию они могут или оставаться в Советской России, или возвращаться в Латвию. Кто-то, у кого были хорошие перспективы по службе и кто был убежденным коммунистом, остался, но большинство захотело вернуться домой. В числе первых был и Карл, с октября точно знавший о том, что его жена Леокадия, сын Ивар и старый отец живы и живут в Риге.
Гражданскую войну 27-летний комроты Латышского стрелкового полка Карл Петерс закончил 14 ноября 1920 года в Евпатории. По итогам боев на Перекопе он был награжден массивными серебряными часами. А потом всем латышам, воевавшим в Красной Армии, было объявлено, что по желанию они могут или оставаться в Советской России, или возвращаться в Латвию. Кто-то, у кого были хорошие перспективы по службе и кто был убежденным коммунистом, остался, но большинство захотело вернуться домой. В числе первых был и Карл, с октября точно знавший о том, что его жена Леокадия, сын Ивар и старый отец живы и живут в Риге.
В родной город он приехал на Рождество 1920 года. В полиции ему дали адрес семьи, в которой Лика с сыном и отец снимали комнаты, и через час Карл уже обнимал родных. Сюрприз получился потрясающим в прямом смысле слова – жена упала в обморок, отец прослезился, а сын, которому было уже пять лет, долго не мог поверить в то, что незнакомый дядя в серой шинели и есть его отец.
И началась жизнь, совсем не похожая на ту, что была раньше. После двух лет войны Карл с трудом привыкал к тому, что теперь не нужно вскакивать ни свет ни заря, кем-то командовать, хоронить подчиненных и знакомых, ежедневно рисковать жизнью… И он просто наслаждался миром – Рига хоть и жила после шести тяжелейших лет нелегко, все-таки войны здесь уже не было. А еще нужно было искать работу. И, поразмыслив, Карл решил поступить на службу в Латвийскую армию. Туда охотно принимали бывших латышских стрелков, вне зависимости от того, на чьей стороне они воевали в Гражданскую. Те, у кого был командный стаж и военное образование, полученное еще в России, легко и без проволочек проходили аттестацию и, как правило, получали соответствовавшие прежним чины.
Так в 1921 году Петерс получил звание «leitnants» (лейтенант, что соответствовало примерно поручику, по одной звездочке в петлице) и снова надел новенькую офицерскую форму, теперь уже латышскую. Служба была связана с разъездами, но по меркам его прежней жизни совсем недальними: сначала командование ротой в 7-м Сигулдском пехотном полку, расквартированном в Алуксне, потом полковой адъютант 12-го Баусского пехотного полка в Екабпилсе, а с 1926-го штабная служба в Риге. В штаб Петерса перевел генерал Хартманис, поручивший Карлису сперва западноевропейский сектор военной аналитики, а с 1937-го – сектор взаимодействия с иностранными военными атташатами. В чинах Петерс рос медленно: в 1926-м стал старшим лейтенантом (virsleitnants, по две звездочки в петлице), в 1932-м — капитаном (kapteinis, по три звездочки в петлице), а в 1937-м – полковником-лейтенантом (pulkvedis-leitnants, один золотой ромбик в петлице). Но объяснялось это легко: в маленькой армии вакансии можно было пересчитать по пальцам, и в старшие офицеры выходили очень немногие. Во всей Латвии всего-то было 2013 офицеров.
 После того как Петерс получил перевод в штаб армии в Риге, решилась наконец проблема с жильем. Ему предоставили трехкомнатную служебную квартиру в доходном пятиэтажном доме постройки 1913 года на углу улиц Миера и Бривибас, в относительном центре. Но отец Петерса к тому времени уже не жил вместе с сыном и невесткой: закончил-таки строить новый дом на месте сожженного во время войны и вернулся в родную деревню. Там старый рыбак и умер ясным весенним днем 1927-го — вышел в море за салакой, а назад его привезли друзья уже мертвого: сердечный приступ. Похоронили Андриса Петерса в Апшуциемсе.
После того как Петерс получил перевод в штаб армии в Риге, решилась наконец проблема с жильем. Ему предоставили трехкомнатную служебную квартиру в доходном пятиэтажном доме постройки 1913 года на углу улиц Миера и Бривибас, в относительном центре. Но отец Петерса к тому времени уже не жил вместе с сыном и невесткой: закончил-таки строить новый дом на месте сожженного во время войны и вернулся в родную деревню. Там старый рыбак и умер ясным весенним днем 1927-го — вышел в море за салакой, а назад его привезли друзья уже мертвого: сердечный приступ. Похоронили Андриса Петерса в Апшуциемсе.
Наладилась после долгого перерыва связь и со старшим братом. Первые письма от Мариса Петерса начали приходить из Нью-Йорка еще в 1920-м, а потом переписка стала регулярной. Марис писал, что его бизнес по торговле зубным порошком идет в гору, ему принадлежат уже три небольших магазина и он подумывает о женитьбе. Приглашал приехать к себе, но билеты на пароход до Америки стоили дорого, да и не было возможности у Карла взять на службе такой долгий отпуск. А сам Марис в ответ на приглашения приехать в Ригу ссылался на вечную занятость. Даже на похороны отца он не приехал, объяснил, что подвернулся выгодный контракт, упускать его было нельзя, бизнес есть бизнес…
Только в в 1935 году братья наконец увиделись: Марис решил открыть филиал своей фирмы в Риге и приезжал лично контролировать процесс. Встреча получилась странной – с одной стороны, теплой и радостной, с другой – Карл не мог не почувствовать, как изменила Америка старшего брата. В глазах у Мариса появилось снисходительное, барственное выражение, он на все посматривал свысока. По-латышски говорил хоть и правильно, но с запинкой, русский язык вовсе забыл. И долго, упоенно рассказывал Карлу и Лике о своем новом автомобиле, уже пятом по счету, о квартире, которую он нанял недавно на Манхэттэне. Словом, всю неделю, что брат гостил в Риге, Петерса не покидало чувство неловкости, которое он даже сам себе не мог объяснить внятно.
 В общем, после тяжелых лет жизнь постепенно налаживалась, входила в устойчивую колею. Выпавшие на долю Петерсов горести забывались, смывались радостями. Рос Ивар: в 1922-м пошел в школу, десять лет спустя закончил ее. Уже в старших классах парень увлекся авиацией, причем вполне серьезно, начал ходить на занятия в аэроклуб. А после школы решил поступать в военное училище. И в 1935-м уже получил удостоверение пилота. Карл и Лика были горды таким выбором сына. С 1936-го 21-летний лейтенант Ивар Петерс служил в единственном авиаполку ВВС Латвии, летал на истребителе-биплане английского производства «Глостер-Гладиатор». Этих машин в ВВС было 25 штук, ими только-только начали заменять другие английские бипланы – «Бристоль-Бульдог». Первая эскадрилья полка базировалась в Риге, так что жил сын по-прежнему дома.
В общем, после тяжелых лет жизнь постепенно налаживалась, входила в устойчивую колею. Выпавшие на долю Петерсов горести забывались, смывались радостями. Рос Ивар: в 1922-м пошел в школу, десять лет спустя закончил ее. Уже в старших классах парень увлекся авиацией, причем вполне серьезно, начал ходить на занятия в аэроклуб. А после школы решил поступать в военное училище. И в 1935-м уже получил удостоверение пилота. Карл и Лика были горды таким выбором сына. С 1936-го 21-летний лейтенант Ивар Петерс служил в единственном авиаполку ВВС Латвии, летал на истребителе-биплане английского производства «Глостер-Гладиатор». Этих машин в ВВС было 25 штук, ими только-только начали заменять другие английские бипланы – «Бристоль-Бульдог». Первая эскадрилья полка базировалась в Риге, так что жил сын по-прежнему дома.
Сложно описать то, что происходит в душе человека за девятнадцать лет. Петерс за эти годы пережил все, что свойственно состоящему на службе офицеру – надеялся на лучшее и лелеял честолюбивые надежды, трезвым взглядом подмечал то, что казалось вредным и нелепым, и радовался достижениям, сожалел о том, чего не успел, и верил в то, что успеет все, что намечено… Какое-то время ему казалось, что все плохое в жизни осталось позади. Оглядываясь назад, теперь он мог бы, пожалуй, назвать самые счастливые и безоблачные годы своей жизни – 1928-29-й. Это были годы удачной службы, карьерного роста, поощрений, наград, счастья и мира в семье, беззаботного отдыха летом, веселых зимних праздников… Не хватало в его жизни разве что друзей. Были хорошие сослуживцы, люди, с которыми было много общего (в прошлом тоже офицеры русской армии, прошедшие Гражданскую за красных), но ни с кем не возникало такой близости и тепла, как когда-то с Юроном, Иванко и Сергуном. Где они, что с ними, Карл не знал. Как тут найдешь человека после страшного лихолетья, перепахавшего целые страны?.. Петерсы не смогли найти даже следов родителей Лики, хотя специально ездили в 1926 году в Вильну, ставшую польским городом. Но все, что смогли узнать – в 1915-м Ликины отец и мать уехали в эвакуацию вглубь России. В их прежней квартире на Георгиевском проспекте (в Польше он назывался улицей Адама Мицкевича) давно жили чужие люди. И всё. Лика плакала тогда несколько дней, Карл никак не мог ее утешить…
А в начале 1930-х реальность начала показывать маленькому мирку Петерсов свои зубы. Грянул всемирный экономический кризис, от которого Латвия пострадала очень сильно. А потом в стране произошел государственный переворот 1934 года, в ходе которого власть сосредоточил в своих руках Карлис Улманис. Его жесткое, волевое лицо смотрело с синих банкнот, с портретов, выставленных в витринах магазинов, с обложек журналов. Настоящий вождь нации, который покончил с «демократической болтовней» и железной рукой начал строить новую страну – это импонировало очень многим. Тем более что это была общеевропейская тенденция: жесткая государственная власть во главе с лидером уже сущестовала в Литве, Эстонии, Португалии… Ну и, конечно, итальянский фашизм. Имя премьер-министра Италии Бенито Муссолини многие сослуживцы Петерса еще в середине 1920-х упоминали с восторгом.
— Муссолини – олицетворение новой, современной Европы! Довольно старой, дряхлой, обуржуазившейся жизни! Она породила Великую войну 1914 года. Теперь нужны новые люди – спортивные, бодрые, не обремененные устаревшей моралью отцов, технически грамотные, смело смотрящие в будущее, заряженные на действие! Только такие смогут создать мощную, сильную страну, которая защитит себя от коммунистического нигилизма…
Сам Карл поначалу тоже отнесся к фашизму не без интереса. Это была свежая струя в затхлом политическом мирке Европы. Фашизм тогда, в 1920-х, считался сугубо итальянским явлением, и Петерс изучал это политическое движение по долгу службы. Некоторые черты фашизма ему импонировали – например, стремление выстроить корпоративное государство, где все граждане были бы подчинены интересам того или иного общества или корпорации. А вот стремление возродить прежнюю Римскую империю, создать некую «Grande Italia» (Великую Италию) скорее отталкивали. И после того как Италия напала в 1935 году на Абиссинию, Петерс мысленно поставил в душе на фашизме жирный крест.
 Параллельно в Европе зародился и стремительно развивался еще один политический феномен — германский национал-социализм. Он сразу же оттолкнул Петерса от себя своей болезненной, маниакальной сущностью: идеями превосходства арийской нации над другими, реванша после поражения в Первой мировой… Но до 1933 года Петерс был уверен, что партия Адольфа Гитлера не сможет получить большинства голосов в рейхстаге. И каково же было его удивление, когда на выборах этого года национал-социалисты победили, а Гитлер стал рейхсканцлером при престарелом рейхспрезиденте Гинденбурге. А после смерти Гинденбурга вовсе провозгласил себя «фюрером и рейхсканцлером», сосредоточив в своих руках всю власть в стране. Аналитики Военного министерства изумленно рассуждали о «чуде», но Карл про себя считал иначе: чудес в политике не бывает, если Гитлер из полунищего изгоя внезапно стал главой государства, значит, это кому-то нужно, кто-то привел его на этот пост… Осталось только понять – зачем.
Параллельно в Европе зародился и стремительно развивался еще один политический феномен — германский национал-социализм. Он сразу же оттолкнул Петерса от себя своей болезненной, маниакальной сущностью: идеями превосходства арийской нации над другими, реванша после поражения в Первой мировой… Но до 1933 года Петерс был уверен, что партия Адольфа Гитлера не сможет получить большинства голосов в рейхстаге. И каково же было его удивление, когда на выборах этого года национал-социалисты победили, а Гитлер стал рейхсканцлером при престарелом рейхспрезиденте Гинденбурге. А после смерти Гинденбурга вовсе провозгласил себя «фюрером и рейхсканцлером», сосредоточив в своих руках всю власть в стране. Аналитики Военного министерства изумленно рассуждали о «чуде», но Карл про себя считал иначе: чудес в политике не бывает, если Гитлер из полунищего изгоя внезапно стал главой государства, значит, это кому-то нужно, кто-то привел его на этот пост… Осталось только понять – зачем.
С этого времени Петерс пристально следил за всеми новостями из Германии, заполняя выписками из немецких газет и журналов отдельную тетрадь, анализируя прессу Англии, Франции, Чехословакии, Польши, Румынии, Болгарии и скандинавских стран. Его беспокоило, что начиная с 1935 года гитлеровское государство нагло попирало все международные правила и законы – там была возрождена массовая армия, получившая название «вермахт», стали восстанавливаться военная авиация и флот, появились первые танки… Потом немцы вошли в демилитаризированную Рейнскую область. В Германии были введены антисемитские законы, началось жесткое преследование евреев. И самое удивительное – никто в Западной Европе не возмущался, не протестовал!.. Великобритания и Франция словно делали вид, что все действия Германии ее не касаются. Более того, в 1936 году Германии доверили провести сразу две Олимпиады – сначала зимнюю, потом летнюю. Словно рекламировали национал-социализм!.. «Создается впечатление, что проект «Германия» готовится для новой войны, — писал Карл в аналитической записке на имя начальника своего управления. – Причем бездействие стран Европы в ответ на недвусмысленные действия Гитлера представляется удивительным. Создается впечатление, что Гитлеру нарочно потакают, позволяя ему все больше и больше в расчете на то, что он начнет осуществлять действия, выгодные великим державам – Великобритании и Франции. Скооперировавшись с «обиженными» по итогам Великой войны 1914-18 годов Австрией и Венгрией, которая была сильно ущемлена Румынией, Югославией и Чехословакией, а также с фашистской Италией, а возможно, и Польшей, Гитлер при попустительстве великих держав сможет создать военный союз, который в перспективе может представлять огромную опасность для всей Европы, в том числе и Латвии (если учесть традиционную враждебность немцев к латышам). Учитывая антигуманную идеологию, которую исповедует Гитлер, этот военный блок может развязать войну, равную которой мир еще не видел».
Но все чаще и чаще Петерс наблюдал среди своих сослуживцев нескрываемую симпатию к новой Германии. И Латвия при Улманисе все больше и больше начинала напоминать Германию при Гитлере. Тот же культ вождя («нужно, чтобы ваше доверие к вождю народа перешло в восхищение, и, чтобы восхищение, в свою очередь, перешло в обожествление», — учили детей в школах), та же националистическая пропаганда – латыши лучше всех, то же ущемление национальных меньшинств. Например, если до Улманиса в Латвии широко употреблялся русский язык, до после 1934 года его стали откровенно «зажимать». Закрывали белорусские школы, объявили несуществующим небольшой латгальский народ – хоть и родственный латышам, но не идентичный им… Сходство с гитлеровским режимом усиливали каски на солдатах латвийской армии и свастика на крыльях латвийских самолетов. Когда Карл сказал об этом сыну, тот удивился:
— Но ведь это наш, латышский символ – угунсткрустс, огненный крест!
— Угунсткрустс выглядит иначе, — возразил Карл. – А это свастика, символ, который использует Гитлер!
— Ну и что? – пожал плечами лейтенант Петерс. – У немцев она черная, а у нас красная…
— Но Гитлер…
— А что – Гитлер? Во-первых, Гитлер нам не указ – у нас у самих есть вождь нации, мы не копируем немцев, а ищем собственный путь… А во-вторых, если уж на то пошло, с Гитлером, если хочешь знать, очень многие у нас согласны. Кто еще защитит Европу от Сталина? Или ты хочешь, чтобы в Ригу, как в 1919-м, пришли большевики и снова забрали тебя в Красную Армию?.. – Сын иронически ухмыльнулся. – Боюсь, теперь тебе так уже не повезет. Тебя просто поставят к стенке как представителя буржуазной армии…
Разговор получился неприятным, резким – сын явно дал понять, что в Гитлере и его идеях он не видит ничего отталкивающего. А после нескольких подобных споров с сослуживцами Петерс и вовсе почувствовал пугающее одиночество.
А если сын прав и в Латвию снова, как в 1919-м, войдут советские войска?.. Взвешивая «за» и «против», Карл честно ответил себе: если нет выбора, если нейтралитет невозможен, лучше Сталин, чем Гитлер. Немцы не оставят латышам шанса на спасение, им Латвия интересна как земля, где будут стоять немецкие поместья. Петерс хорошо помнил, что рассказывал отец про немца барона Фиркса, которому принадлежала деревня Апшуциемс. А при Советах латыши сохранятся как нация. Да более того, станут лучше, лишатся этой тупой самодовольной кичливости, которая начала процветать при Улманисе. Маленькому народу плохо вариться в собственном соку, ему нужно быть распахнутым всему миру, общаться с другими, учиться, взаимодействовать. Тогда лучше понимаешь и ценность своей культуры, и учишься любить и уважать другие народы и их ценности.
Конечно, если в Латвию придут Советы, рухнет прежний, привычный буржуазный уклад жизни, милый мир, чем-то напоминающий прежнюю умершую Ригу 1913 года. Наступит новая жизнь… новое всё. Возможно, его, Петерса, снова призовут под красные знамена, как в 1919-м. И что тогда?.. Карл засиживался ночами в кабинете на улице Миера, курил, исписывал страницы блокнотов одному ему понятными заметками и соображениями, таращился в ночное черное окно, за которым лежала плотная, однообразная тишина, только изредка процокивал копытами по булыжнику старой улицы извозчик. На столе лежали номера «Правды» с портретами Сталина и «Фёлькишер беобахтер» с портретами Гитлера. Петерс думал, думал, думал… Мир снова менялся, двигался куда-то, и стоять в стороне нельзя, надо двигаться, думать, соображать, иначе раздавит, сметёт…
Было понятно одно – страна, которой на глазах становилась его любимая Латвия, его не устраивала. Такой Латвии – потенциальной союзницы, жертвы или сначала союзницы, потом жертвы Германии – он не хотел. Быть спицей в колесе, которое вертелось не в ту сторону, не хотел тоже. Его страна двигалась явно куда-то не туда, но как остановить это движение?..
Альтернатива была одна – Советский Союз.
Среди старших офицеров армии Латвии отношение к восточному соседу было сложным. Почти все они получили военное образование в старой России, большинство были на Великой войне поручиками, штабсами и капитанами, кое-кто – подполковником и полковником. В них жила память о старых офицерских традициях, о принадлежности к огромной армии великой страны. Советскую власть все они в той или иной степени отвергали – кто откровенно боялся и ненавидел, кто презирал, кто игнорировал, кто высмеивал. И одновременно они не могли не признавать: изменения, которые произошли с Советским Союзом в 1930-е, колоссальны. Буквально на глазах рождалась принципиально новая страна, индустриальный гигант, заставлявший забыть об ужасах разрухи начала 1920-х и Гражданской войны. Конечно, латвийские газеты писали о ГПУ, о массовых арестах, о культе личности Сталина. Но официально враждебным государством СССР в Латвии все же не считался – с 5 февраля 1932-го между странами действовал договор о ненападении и мирном разрешении конфликтов. А наряду с книгами, проклинающими большевизм, на полках рижских магазинах стояли и другие – впечатления европейских путешественников, где рассказывалось о том, что в СССР полностью побеждена неграмотность, отсутствует безработица, на полную мощность работают гигантские заводы и фабрики, снимаются великолепные фильмы (на «Чапаева» Петерс с семьей сходил два раза и был в полном восторге), возводятся прекрасные здания, процветает сельское хозяйство…
В июне 1937-го тайная мечта Карла сбылась — когда его перевели в сектор взаимодействия с атташатами, он был включен в состав официальной делегации Военного министерства и на четыре дня приехал в Москву. Столицу России он видел в последний раз в 1920-м, когда уезжал после излечения в лазарете на Южный фронт. В памяти смутно сохранился облик грязного весеннего города, убогих, давно не ремонтировавшихся домов на Тверской, выбоины на мостовых и тротуарах – незаделанные следы октябрьских боев 1917-го, обилие серых шинелей и телег на улицах…
 Теперешняя Москва потрясла Петерса. Это был абсолютно новый, словно созданный «с нуля» город, настоящий гигант, по которому неслись новенькие троллейбусы и вполне современные легковые машины. Сверкали мрамором и стеклом новые здания. Ошеломляюще элегантным на фоне скромных европейских «подземок» выглядело метро. Повсюду красные флаги, портреты Сталина и других советских вождей. И стройки, стройки… Самая грандиозная шла на месте взорванного храма Христа Спасителя – там возводился Дворец Советов, самое большое и высокое здание мира, как с гордостью объяснил Карлу сопровождавший латвийскую делегацию полковой комиссар РККА.
Теперешняя Москва потрясла Петерса. Это был абсолютно новый, словно созданный «с нуля» город, настоящий гигант, по которому неслись новенькие троллейбусы и вполне современные легковые машины. Сверкали мрамором и стеклом новые здания. Ошеломляюще элегантным на фоне скромных европейских «подземок» выглядело метро. Повсюду красные флаги, портреты Сталина и других советских вождей. И стройки, стройки… Самая грандиозная шла на месте взорванного храма Христа Спасителя – там возводился Дворец Советов, самое большое и высокое здание мира, как с гордостью объяснил Карлу сопровождавший латвийскую делегацию полковой комиссар РККА.
Переговоры проходили в огромном здании Наркомата обороны. Уже после переговоров в большом зале был устроен прием в честь зарубежных гостей. После первого тоста за советско-латвийское добрососедство и взаимовыгодное сотрудничество Карл нацелился было на аппетитные бутерброды с красной икрой, которые щедрыми рядами были выложены на большом блюде, и в этот момент услышал за спиной чуть дрогнувший от волнения родной голос, который он мгновенно узнал, несмотря на годы:
— Ну здравствуй, Карлуша…
Петерс мгновенно обернулся. Юрон?.. Да, это был Юрон, с полуседыми висками и двумя большими морщинами у губ, но живой, самый настоящий, в новенькой, ладно сидящей на нем форме командира РККА с двумя «шпалами» в малиновых петлицах. «Майор», — тут же сообразил Петерс, это давно забытое, отмененное еще при Александре III звание в Красной Армии восстановили в 1935 году. И удивился: неужели Юра при его опыте и выслуге лет до сих пор ходит в майорах? А может, в Красной Армии не учитывается стаж выслуги до революции?..
— Сколько лет? – только и смог выговорить Петерс.
— Не знаю. Кажется, двадцать…
Оба понимали, что вокруг люди, и, сдерживая волнение, перекинулись тогда только несколькими сбивчивыми фразами: как дела, как здоровье, как служба?.. И ответы были такими же нелепыми: все хорошо, все хорошо, все хорошо. Потом прием закончился, и Юра, уходя, шепнул Карлу на ухо: в одиннадцать выходи к подъезду гостиницы.
Будь на месте Юрона кто другой, Петерс, конечно, не поддался бы на провокацию. Он знал, что каждый его шаг в Москве отслеживается и своими, и чужими, и понимал, что Юра находится точно под таким же плотным наблюдением. Но это был его друг, Юра Варламов, полоцкий кадет, с которым они когда-то, 27 лет назад, обменялись клятвой у стен Святой Софии, с которым было столько связано. И потому в одиннадцать вечера Петерс, облаченный в штатский костюм, вышел к подъезду своей гостиницы – гигантской «Москвы», построенной в Охотном ряду два года назад (Карл смутно помнил, что в 1920-м на этом месте вроде бы стояли церковь и торговые ряды).
Ждать пришлось недолго. Через минуту к нему подкатила машина – черный М-1, советская копия «Форда-В40». Юрон, тоже в штатском, сам сидел за рулем. Карл молча уселся рядом, хлопнула дверца, и мимо побежали пустынные московские улицы.
Пару раз Петерс оглянулся, ожидая увидеть «хвост». Но никакого «хвоста» не было.
— Юра, нас что, не «ведут»? – спросил Петерс вполголоса.
Варламов усмехнулся и отрицательно покачал головой.
Ехали недолго. «Эмка» промчалась мимо университета, свернула направо, на Арбатской площади повернула налево, громыхая колесами по брусчатке, промчалась по темному пустынному бульвару, в начале которого высился скорбно нахохленный андреевский памятник Гоголю, миновала ярко освещенную прожекторами стройку Дворца Советов и еще раз свернула направо, в тесный коридорчик Остоженки. Улица была пустынна. В окрестных домах светились редкие окна. У пустого тротуара Юрий остановил машину.
— Ну как ты?..
На Остоженку плавно опустилась летняя ночь. Ушли домой последние влюбленные пары, отзвенели последние трамваи, погасли последние огни в окнах квартир, погасли фонари, только откуда-то сзади, со стороны Дворца Советов, продолжали светить мощные прожекторы – стройка шла даже ночью. Потом ночь пошла на убыль, небо из черного сделалось чернильным, фиолетовым, глубоко-синим и, наконец, предрассветно-розовым. А два друга, не видевшиеся двадцать лет, все говорили и говорили, торопясь пересказать две жизни и поделиться тем, что наболело внутри за все эти годы…
Потом у них были еще три дня. Эти три дня Юрий и Карл встречались в официальной обстановке, на переговорах в наркомате, и по вечерам. И говорили, говорили, делясь сокровенным. Оба были удивлены и обрадованы тем, как много у них осталось общего с тех пор, как оба были офицерами русской армии. Оба откровенно сказали о том, как беспокоит их нарастающее влияние Германии в Европе и фашизация прибалтийских стран (не только Латвии). Оба не сомневались в том, что неизбежна новая большая война. Но пока она не началась, нужно сделать все, чтобы минимизировать потери, а если возможно – и предотвратить ее…
На вокзале Варламов латвийскую делегацию не провожал. Но к тому времени Юрий и Карл уже условились о связи, которую будут поддерживать между собой. Обсудили они и все другие технические вопросы. Естественно, Карл, как офицер штаба, ответственный за сотрудничество с иностранными армиями, прекрасно осознавал, что во время зарубежного визита находился под наблюдением, что его действия контролируются и в Риге. Но оба оговорили схему, благодаря которой контакты старых сослуживцев не вызвали подозрений у их начальства. В Риге Петерс доложил о том, что в Москве им был завербован майор РККА, а Варламов доложил о состоявшейся вербовке подполковника армии Латвии. Одновременно оба начали поставлять друг другу вполне правдоподобную информацию. Эта игра была одобрена как в Москве, так и в Риге, и обе стороны в 1937-м записали на свой счет очередной успех.
Истинная же цель сотрудничества Петерса с Варламовым была в другом. Карл был призван сыграть роль советского агента влияния в высших слоях армии Латвии – исподволь готовить старших офицеров к возможности смены строя в республике, отслеживать тенденции, понемногу растить и направлять их, по возможности влиять на расстановку кадров в военно-дипломатическом корпусе. Ну и само собой информировать о деятельности иностранных военных атташатов в Латвии.
Помнится, еще тогда, душной летней ночью 1937-го, когда курьерский поезд Москва – Рига уносил вагон с дипломатами к латвийской границе, Карл курил в грохочущем тамбуре и спрашивал у себя откровенно: совершил ли ты предательство, стал ли изменником? Ведь ты давал присягу на верность Латвийской Республике и ее президенту. Твой долг – защищать Латвию всеми силами. В том числе и от СССР. А вчера, согласившись выполнить просьбу друга, ты не только замарал офицерскую честь – ты стал предателем, агентом иностранной державы…
Что ответить самому себе, Петерс знал: он присягал не такой Латвии и не такому президенту. Если события будут развиваться дальше так, как он думает, этой стране осталось совсем немного – она будет смята и раздавлена нацистами, немцами, которые ненавидят латышей уже многие века. Он, Петерс, истинный патриот Латвии и сделает все для того, чтобы предотвратить этот сценарий. Пусть его станут считать изменником и предателем, пусть ради этого придется пожертвовать личной честью… Зато опомнится, избавится от предателей в руководстве и будет жить дальше его страна. «Как это говорит в Конвенте Дантон? — припомнил Петерс. — «Пусть будет забыто мое имя, лишь бы Франция была свободна!» Вот и с ним так же…
С тех пор минуло больше двух лет. Обстановка в Европе накалилась еще больше. Гитлеровская Германия поглотила независимую Австрию, при участии Польши и Венгрии разорвала на части Чехословакию… Великобритания и Франция молчали по-прежнему. И даже когда Гитлер напал на Польшу, войну ему великие державы объявили не сразу, а только 3 сентября. И что это была за война?.. Весь вермахт воевал на востоке. Сломать хрупкую завесу немцев на западе французы и англичане могли играючи. Но вместо этого они стояли на германской границе и… играли в футбол. А английские бомбардировщики сыпали на Германию тысячи… нет, не бомб, а листовок. Когда кто-то удивился, что Британия не бомбит Германию, англичане удивились в ответ: «Что вы, может же пострадать чужая частная собственность!»…
Но, конечно, главным шоком 1939 года стала даже не война, а подписанные в Москве договоры между Германией и СССР. Сначала – о ненападении, потом – о дружбе. Фотографии Сталина, чокающегося шампанским с Риббентропом, обошли газеты всего мира. И тут же – карикатуры: Гитлер в костюме жениха ведет Сталина-невесту под венец, Гитлер и Сталин вежливо раскланиваются друг другу, стоя по разные стороны границ…
 Петерс хорошо помнил, какой шок испытали латвийские политики в эти дни. Они ведь считали гитлеровскую Германию своим единственным оплотом в потенциальной борьбе против СССР, 7 июня 1939-го Латвия сама заключила с Германией договор о ненападении, а тут – такое «предательство»!.. А уж когда СССР в сентябре 1939-го предложил всем прибалтийским странам заключить договоры о взаимной помощи, политикам и дипломатам стало и вовсе не до сна. До глубокой ночи горели настольные лампы в министерских кабинетах, трещали телефоны, дымили сигареты и трубки, распечатывались новые и новые упаковки порошков от головной боли. Аналитики просчитывали вероятия, дипломаты вели зондаж, журналисты-международники строили предположения, военные привычно готовились к мобилизации…
Петерс хорошо помнил, какой шок испытали латвийские политики в эти дни. Они ведь считали гитлеровскую Германию своим единственным оплотом в потенциальной борьбе против СССР, 7 июня 1939-го Латвия сама заключила с Германией договор о ненападении, а тут – такое «предательство»!.. А уж когда СССР в сентябре 1939-го предложил всем прибалтийским странам заключить договоры о взаимной помощи, политикам и дипломатам стало и вовсе не до сна. До глубокой ночи горели настольные лампы в министерских кабинетах, трещали телефоны, дымили сигареты и трубки, распечатывались новые и новые упаковки порошков от головной боли. Аналитики просчитывали вероятия, дипломаты вели зондаж, журналисты-международники строили предположения, военные привычно готовились к мобилизации…
Обстановка действительно сложилась крайне напряженная. Эстония всерьез размышляла о том, чтобы объявить СССР войну. 26 сентября этот вопрос обсуждался на заседании Государственного совета, на эстонско-советской границей началось сосредоточение войск. Но после консультаций с немцами, которые заверили эстонцев в том, что война Германии с СССР непременно будет, только попозже, Таллин все же решил подписать договор и сделал это 28 сентября. После этого, 1 октября, президент Латвии Улманис собрал заседание Кабинета министров, на котором было принято решение отправить для переговоров в Москву министра иностранных дел Вилхелмса Мунтерса. Единственного члена Кабинета, который был против этого шага, — министра финансов Алфредса Валдманиса, — на это заседание попросту не позвали.
2 октября Мунтерс прилетел в Москву и в 21.30. того же дня был принят Сталиным и Молотовым, которые объяснили министру: целью договора является обеспечение безопасности Латвии в случае нападения на нее третьего государства. Все, что требуется от Латвии, — предоставить СССР военно-морские базы в Вентспилсе и Лиепае, а также военные аэродромы. «Если мы достигнем соглашения, то для торгово-экономических дел имеются очень хорошие предпосылки», — заключил Сталин. Мунтерс возразил против количества советских войск, которые Сталин предлагал разместить в Латвии – 50 тысяч. Завязался торг, в котором министр иностранных дел успешно отстоял свои позиции – Сталин согласился уменьшить размеры контингента.
 Вечером 3 октября Кабинет министров во главе с Улманисом обсудил итоги переговоров и поручил Мунтерсу подписать договор, что и произошло 5 октября. Последней, 10 октября, подписала договор с СССР Литва. Ей в обмен на договор досталась давняя мечта литовцев — Вильно и Виленская область, которые еще в 1920 году были аннексированы Польшей.
Вечером 3 октября Кабинет министров во главе с Улманисом обсудил итоги переговоров и поручил Мунтерсу подписать договор, что и произошло 5 октября. Последней, 10 октября, подписала договор с СССР Литва. Ей в обмен на договор досталась давняя мечта литовцев — Вильно и Виленская область, которые еще в 1920 году были аннексированы Польшей.
«Латвия пошла на заключение договора по двум главным причинам, — писал Карл 6 октября в своей аналитической записке, предназначенной для отправки в Москву. – Во-первых, в правительстве пришли к выводу, что текст договора действительно не содержит в себе ни малейших угроз суверенитету Латвии (см.статья V). Во-вторых, и это главное, Латвия после начала европейской войны начала испытывать огромные экономические трудности. Под угрозой оказались и импорт, и экспорт. Безусловно, правительство надеется оживить экономику страны за счет помощи со стороны СССР. Основные позиции, в поставках которых заинтересована Латвия – цветные металлы, уголь, керосин».
Экономические трудности действительно лежали на поверхности. После начала войны немецкие военные корабли регулярно перехватывали латвийские суда, плывшие в Англию. В первый месяц Второй мировой войны промышленное производство в Латвии уменьшилось почти на 10 процентов. Начались перебои с самыми разными товарами – от продовольствия до ювелирных изделий. Так, 9 октября в Латвии закрылись все ювелирные магазины. 12 октября магазины открылись, но… в них запрещалось продавать золото, платину, жемчуг, драгоценные камни, а серебряные изделия не должны были весить более ста граммов. Взлетели цены на спиртное, да так, что министр финансов Валдманис должен был дать специальное интервью, где объяснял: «Спирт в настоящее время имеет ценность золота, так как им мы можем заменить горючее, получать которое из-за границы становится все труднее». Вместо бензина на заправках появился латол, и то по талонам.
Теперь, после подписания договора, между СССР и Латвией было заключено масштабное торговое соглашение, согласно которому СССР обязался за год поставить в Латвию тысячи тонн сахара, соли, хлопка, десятки тысяч тонн керосина, серный колчедан, концентрат апатита и многое другое. К середине октября 1939-го официальная позиция латвийских властей была озвучена президентом Улманисом: «Этот пакт с великим соседом, заключенный в духе доверия и доброй воли с обеих сторон, несет нам уверенность, как и отдаление опасности войны или даже ее предотвращение». Известный латышский писатель Александр Гринс писал в газете «Брива земе», что найден приемлемый для стран Балтии компромисс. Министр земледелия Янис Бирзниекс на съезде кооперативных деятелей уверял, что договор обеспечит независимость Латвии…
 25 октября 1939-го границу Латвии пересек первый эшелон с советскими войсками. Командиру 2-го Особого стрелкового корпуса комдиву Морозову и бригадному комиссару Марееву был отдан строгий приказ никоим образом не вмешиваться во внутренние дела Латвийской Республики и не допускать встреч военных с местным населением. «Различные антисоветские провокаторы будут пытаться и уже пытаются изобразить вступление наших частей в Латвию как начало ее «советизации», — говорилось в приказе наркома обороны СССР № 0163 от 25 октября. — Такие и подобные им настроения и разговоры о «советизации» Латвии в корне противоречат политике нашей партии и правительства и являются безусловно провокаторскими. Советский Союз будет честно и пунктуально выполнять пакт о взаимопомощи и ожидает того же со стороны Латвии. Настроения и разговоры о «советизации», если бы они имели место среди военнослужащих, нужно в корне ликвидировать и впредь пресекать самым беспощадным образом, ибо они на руку только врагам Советского Союза и Латвии… Всех лиц, мнящих себя левыми и сверхлевыми и пытающихся в какой-либо форме вмешаться во внутренние дела Латвийской Республики, рассматривать как играющих на руку антисоветским провокаторам и злейшим врагам социализма и строжайше наказывать». Аналогичные приказы были изданы для 16-го Особого стрелкового корпуса, расквартированного в Литве, и 65-го Особого стрелкового корпуса, размещенного в Эстонии…
25 октября 1939-го границу Латвии пересек первый эшелон с советскими войсками. Командиру 2-го Особого стрелкового корпуса комдиву Морозову и бригадному комиссару Марееву был отдан строгий приказ никоим образом не вмешиваться во внутренние дела Латвийской Республики и не допускать встреч военных с местным населением. «Различные антисоветские провокаторы будут пытаться и уже пытаются изобразить вступление наших частей в Латвию как начало ее «советизации», — говорилось в приказе наркома обороны СССР № 0163 от 25 октября. — Такие и подобные им настроения и разговоры о «советизации» Латвии в корне противоречат политике нашей партии и правительства и являются безусловно провокаторскими. Советский Союз будет честно и пунктуально выполнять пакт о взаимопомощи и ожидает того же со стороны Латвии. Настроения и разговоры о «советизации», если бы они имели место среди военнослужащих, нужно в корне ликвидировать и впредь пресекать самым беспощадным образом, ибо они на руку только врагам Советского Союза и Латвии… Всех лиц, мнящих себя левыми и сверхлевыми и пытающихся в какой-либо форме вмешаться во внутренние дела Латвийской Республики, рассматривать как играющих на руку антисоветским провокаторам и злейшим врагам социализма и строжайше наказывать». Аналогичные приказы были изданы для 16-го Особого стрелкового корпуса, расквартированного в Литве, и 65-го Особого стрелкового корпуса, размещенного в Эстонии…
…Прием по случаю Дня Независимости был в разгаре. Гости толпились у столов с закусками, где уже преобладали пустые тарелки, брали с подносов все новые и новые бокалы с напитками. Оркестр, сидевший в углу, негромко, словно для себя, играл вальсы Штрауса и арии из оперетт Кальмана.
С бокалом в руках Петерс курсировал по залу, словно невзначай подходя то к одной, то к другой группе гостей, и вежливо осведомлялся, всем ли довольны приглашенные. Дипломаты, хорошо знавшие Карла, просили его присоединиться к общей беседе. Через некоторое время Петерс так же вежливо извинялся и направлялся к другой группе. Обычная для дипломатических приемов манера поведения – за вечер нужно повидать всех и узнать как можно больше новостей.
Германский посол и советский полпред стояли под большим портретом первого президента Латвии Яниса Чаксте. Ханс Ульрих фон Котце был в парадной форме германского Рейхсминистерства иностранных дел, на рукаве которой красовался имперский орёл, распростерший крылья над земным шаром. На этом фоне полномочный представитель СССР Иван Степанович Зотов выглядел куда более скромно – обычный темный костюм с галстуком и белая рубашка. Выслушав их протокольные поздравления и поблагодарив, Карл присоединился к беседе. Зотов и фон Котце по-немецки обсуждали переселение этнических немцев из Латвии в Германию, начавшееся по инициативе немецкой стороны 7 октября.
— И сколько уже зарегистрировалось на выезд в Германию? – поинтересовался Зотов.
— 84 тысячи человек. Фольксдойче из них 62 тысячи. Это чуть меньше трети всех немцев, живущих в странах Балтии.
— Господин посол, а где больше всего немцев живет вне Германии? – спросил Петерс.
— В Советском Союзе, — улыбнулся фон Котце. – Миллион 100 тысяч человек. Затем Добруджа, Буковина и Бессарабия – 800 тысяч человек, Бразилия – 750 тысяч, Чили – 720 тысяч, Югославия – 700 тысяч… К счастью, сейчас благодаря мудрой политике фюрера многие фольксдойче получили возможность воссоединиться с Родиной. Это 600 тысяч немцев, живших в Польше, и 300 тысяч – в Чехословакии.
Лакей в черном фраке приблизился к дипломатам с подносом, на котором стояли бокалы с шампанским, белым и красным вином. Взяв с подноса бокал с красным, фон Котце продолжил:
— Словом, время сейчас горячее. Полным ходом работает комиссия по обеспечению переезда и выплате компенсаций за оставляемое имущество… Забот столько, что голова идет кругом. Только на приемах и отдыхаешь душой.
— Воссоединение с Родиной — благородная акция, — заметил Зотов. – Немцы за пределами Германии чувствуют себя так же неуютно, как и русские вне России.
— Да, у наших народов масса общего! – тут же подхватил фон Котце. – Романтизм, великая литература, любовь к Родине, любовь к своим вождям…
Чуть поодаль стояли другие работники советского полпредства — первый секретарь Иван Яковлевич Чичаев и военный атташе СССР в Латвии полковник Александр Андреевич Завьялов. 37-летний Завьялов был руководителем советской резидентуры Разведуправления Генштаба РККА в Латвии, и именно от него получал задания Карл. А вот Чичаев представлял в Латвии разведку НКВД, линии подчинения у него и Завьялова были разные. Чичаев и Завьялов оживленно обсуждали что-то с комкором Василием Ивановичем Морозовым – командиром 2-го Особого стрелкового корпуса РККА, размещенного в Латвии в соответствии с договором от 5 октября. Петерс присоединился к разговору и поздравил Морозова с недавним повышением в звании – в комкоры его произвели две недели назад. Морозов вежливо поблагодарил. Завязался общий разговор о том, как складываются отношения между советскими военными и гражданами Латвии, какое впечатление на комкора произвела страна.
У стола, сервированного миниатюрными шоколадными пирожными, негромко разговаривали о чем-то начальник отдела информации штаба армии полковник-лейтенант Фрицис Целминьш, начальник культурного отдела штаба армии полковник Адолфс Контровскис и второй секретарь посольства Германии Ханс Крегер. Шеф военной контрразведки Латвии привычно улыбнулся Петерсу, но глаза его при этом оставались холодными и непроницаемыми.
Рядом с Целминьшем, Контровскисом и Крегером стоял еще один человек, которого Петерс нередко видел на дипломатических приемах и раутах – Юзеф Ляхор. До сентября этого года Ляхор был представителем нескольких крупных торговых компаний Польши на латвийском рынке. Теперь же, когда Польша перестала существовать как государство, Ляхор продолжал мелькать в Риге. Отметив про себя соседство поляка с немецким дипломатом (по идее, они должны были в принципе не общаться друг с другом), Карл двинулся дальше по залу.
 Торгпред СССР в Латвии Василий Терентьевич Яковлев (до Латвии он три года возглавлял резидентуру НКВД в Болгарии) стоял в большой группе предпринимателей. В их числе был и располневший, с самодовольным лицом Аугустс Озолиньш. Земляк из рыбацкой деревни Апшуциемс, возненавидевший Карла еще с детства. Это благодаря его клевете зимой 1919-го Петерс едва не погиб в ЧК, а потом на два года попал в Красную Армию. Потом они воевали в одной дивизии – вернее, воевал Карл, а Озолиньш заседал в Особых отделах. А уже после возвращения в Латвию Карл едва не потерял дар речи от изумления, когда летом 1931 года неожиданно встретил Озолиньша на главной улице Риги – бывшей Александровской, ныне Бривибас. Озолиньш располнел, в его лице появилось снисходительно-высокомерное выражение. Облаченный в хороший костюм, он больше всего напоминал преуспевающего коммерсанта. Пока Карл молча удивлялся про себя, что Озолиньш, оказывается, тоже вернулся в Латвию (он-то был уверен, что Аугустс остался в 1920-м в России), тот выхватил взглядом его лицо из уличной толпы, и его глаза мгновенно налились тяжелой злобой. Но через секунду людской поток уже разъединил их… Встретиться вновь довелось уже через пять лет на дипломатическом приеме – как выяснилось, Озолиньш был одним из постоянных поставщиков Военного министерства, его компания снабжала армию мылом. Тогда они волей-неволей начали снова общаться – внешне вполне любезно, Озолиньш как будто даже слегка заискивал теперь перед Карлом. Но Петерс знал цену этому человеку и держался настороже.
Торгпред СССР в Латвии Василий Терентьевич Яковлев (до Латвии он три года возглавлял резидентуру НКВД в Болгарии) стоял в большой группе предпринимателей. В их числе был и располневший, с самодовольным лицом Аугустс Озолиньш. Земляк из рыбацкой деревни Апшуциемс, возненавидевший Карла еще с детства. Это благодаря его клевете зимой 1919-го Петерс едва не погиб в ЧК, а потом на два года попал в Красную Армию. Потом они воевали в одной дивизии – вернее, воевал Карл, а Озолиньш заседал в Особых отделах. А уже после возвращения в Латвию Карл едва не потерял дар речи от изумления, когда летом 1931 года неожиданно встретил Озолиньша на главной улице Риги – бывшей Александровской, ныне Бривибас. Озолиньш располнел, в его лице появилось снисходительно-высокомерное выражение. Облаченный в хороший костюм, он больше всего напоминал преуспевающего коммерсанта. Пока Карл молча удивлялся про себя, что Озолиньш, оказывается, тоже вернулся в Латвию (он-то был уверен, что Аугустс остался в 1920-м в России), тот выхватил взглядом его лицо из уличной толпы, и его глаза мгновенно налились тяжелой злобой. Но через секунду людской поток уже разъединил их… Встретиться вновь довелось уже через пять лет на дипломатическом приеме – как выяснилось, Озолиньш был одним из постоянных поставщиков Военного министерства, его компания снабжала армию мылом. Тогда они волей-неволей начали снова общаться – внешне вполне любезно, Озолиньш как будто даже слегка заискивал теперь перед Карлом. Но Петерс знал цену этому человеку и держался настороже.
Со стаканом виски в руках к Яковлеву, Озолиньшу и другим бизнесменам подошел посол США в Латвии и Эстонии по совместительству Джон Купер Уайли. Под руку с ним была его жена, красавица Ирена, о которой все в Риге знали как о талантливой художнице и скульпторе. Тон разговора тут же изменился – зазвучали шутки и комплименты в адрес американки. Карл тоже не остался в стороне. Уайли под общий смех шутливо погрозил ему пальцем, а Ирена кокетливо ударила веером по мундиру…
Около одиннадцати часов вечера прием закончился. Военный министр и другие генералы откланялись еще раньше. Дипломаты со смехом и шутками прощались у машин. Дождь не переставал, и швейцары с зонтами метались от одного автомобиля к другому, пытаясь прикрыть гостей от ледяных струй.
«Вот и всё…» — Петерс обвел взглядом пустой, еще душный от дыхания десятков людей зал. Как всегда после таких мероприятий, он чувствовал себя опустошенным и разбитым, а в голове стоял гул, словно после плавания по ревущему морю. Пустые тарелки и бокалы, кое-где на скатертях винные пятна и раздавленные ненароком фрукты…
— Господин полковник-лейтенант, подавать машину? – спросил у Карла его помощник.
— Да. Я поведу сам, так что водителя можешь отпустить.
— Слушаюсь.
«Прокачусь сам, — подумал Карл, одеваясь в служебном помещении. – Шампанского я только коснулся губами несколько раз, когда провозглашались тосты, а проехаться по пустому городу – одно удовольствие». Он машинально вспомнил, как впервые в жизни уселся за руль автомобиля. Это было, кажется, в 1922 или 1923 годах, летом, на взморье…
Через пять минут Петерс вышел в поздний ноябрьский вечер. У опустевшего подъезда стоял его служебный автомобиль – черный «Форд-Вайрогс-V8». Эти машины в 1939 году начали собирать в Риге по английской лицензии, и Военное министерство закупило большую партию для своих нужд.
 Внутри автомобиля было холодно, слабо пахло смесью бензина и одеколона. Карл прогрел настывший мотор, медленно вывел «Форд» на улицу и медленно, чтобы не губить подвеску на древнем булыжнике, поехал по пустынным мокрым улицам Старой Риги. Через новенький, построенный два года назад министерский квартал выехал на Домскую площадь. Еще в 1936-м здесь стояли средневековые дома, но потом их снесли по приказу Улманиса – для того чтобы построить помпезные, тяжеловесные здания министерств. Петерс слышал о том, что Улманис вообще мечтает снести всю Старую Ригу, потому что она олицетворяет «немецкий дух», и возвести на этом месте принципиально новый, сугубо латышский город – Ригу, которая станет символом Великой Латвии… Для нового здания городской управы, башня которой должна была стать на 30 метров выше башни церкви Святого Петра, уже расчистили целый квартал между улицами Светувес и Грециниеку. Старая Рига, которую помнил Карл, умирала на глазах, ее убивали во имя какой-то новой, несуществующей…
Внутри автомобиля было холодно, слабо пахло смесью бензина и одеколона. Карл прогрел настывший мотор, медленно вывел «Форд» на улицу и медленно, чтобы не губить подвеску на древнем булыжнике, поехал по пустынным мокрым улицам Старой Риги. Через новенький, построенный два года назад министерский квартал выехал на Домскую площадь. Еще в 1936-м здесь стояли средневековые дома, но потом их снесли по приказу Улманиса – для того чтобы построить помпезные, тяжеловесные здания министерств. Петерс слышал о том, что Улманис вообще мечтает снести всю Старую Ригу, потому что она олицетворяет «немецкий дух», и возвести на этом месте принципиально новый, сугубо латышский город – Ригу, которая станет символом Великой Латвии… Для нового здания городской управы, башня которой должна была стать на 30 метров выше башни церкви Святого Петра, уже расчистили целый квартал между улицами Светувес и Грециниеку. Старая Рига, которую помнил Карл, умирала на глазах, ее убивали во имя какой-то новой, несуществующей…
Миновав практически законченное здание Армейского Экономического магазина (его открытие намечалось на 16 декабря), у гостиницы «Рим» мокрый от дождя, сверкающий черный автомобиль пересек трамвайные пути на бульваре Аспазияс и по улице Бривибас понесся к бульварному кольцу. Обогнув воздвигнутый четыре года назад памятник Свободы (он стоял примерно на том же месте, где когда-то высился конный монумент Петру Великому), Петерс гнал машину по пустынной улице. Черная ноябрьская Рига была пуста, только последний трамвай тащился куда-то, оглашая окрестности печальным, умирающим звоном.
На перекрестке Миера и Бривибас Карл плавно повернул налево. После асфальта под колесами снова зазвучала привычная рижская брусчатка. Подпрыгнув на трамвайных рельсах, «Форд» повернул направо, в ворота, ведущие во внутренний двор дома.
Отомкнув ключом две двери квартиры – внешнюю, с щелью для писем и газет, и внутреннюю, — Петерс осторожно вошел в коридор. Но опасения того, что жена уже спит, не оправдались – из гостиной доносилась болтовня радиоприемника. Услышав звук открывшейся двери, в коридор вышла Леокадия Петерс.
— Почему ты еще не легла? – целуя жену в висок, упрекнул ее Карл. – Ты же знаешь, когда заканчиваются приемы.
— Не хотелось. Слушала военные новости, потом начали передавать хорошую постановку «Синей птицы» Метерлинка, и я заслушалась…
— Ну и что там из военных новостей?
— В Ла-Манше подорвался на мине голландский пассажирский пароход, 84 человека погибли. Чья мина, неизвестно. Или английская, или германская…
Петерс повесил фуражку на вешалку, шинель и увесисто звякнувший орденами мундир – на плечики, снял сапоги и портупею и направился в ванную.
— Ивар дома? – крикнул он уже оттуда.
— Нет, позвонил полчаса назад и сказал, что переночует в полку. У них там затянулось отмечание праздника.
— Ну-ну, — пробурчал Петерс, смывая с рук остатки мыла и вытираясь свежим полотенцем. – Ты выпьешь со мной чаю? Или сразу будем укладываться?
— Давай уже укладываться… Я соскучилась.
…Давно затихли все звуки в большом доме на углу улиц Миеру и Бривибас. Только ноябрьский дождь продолжал выбивать по карнизам и крышам свой настырный танец. Вечная рижская погода – дожди, дожди… Любой кусочек солнца здесь ценится на вес золота.
Доверчиво прижавшись к мужу лицом, ровно дышала во сне Лика.
Видел во сне давно ушедшие дни своей офицерской юности полковник-лейтенант Карлис Петерс.
И ровно, четко стучали на большом буфете старинные часы, отсчитывая время уже нового дня 19 ноября 1939 года – очередного дня Второй мировой войны…