ВЯЧЕСЛАВ БОНДАРЕНКО
ЧЕТЫРЕ СУДЬБЫ. ОДНА РОДИНА.
Роман
29
Иван Панасюк – Сергею Семченко, октябрь 1917 года, Одесса – Действующая армия
«Сергун, кадетский привет тебе! (Впрочем, с тех пор как «кадет» означает еще и конституционный демократ, как-то странно стало писать это слово.)
Время такое, что сразу начинаю главным вопросом – жив ли ты? Надеюсь, что да. И если да, то что собираешься делать дальше?..
Я по-прежнему состою офицером-воспитателем в нашем родном корпусе. Лето провели в Ростове и вот вернулись в Одессу, в прежнее здание, откуда ушли запасные полки.
Обстановка в корпусе отвратительная. Еще в августе пришел приказ о преобразовании всех кадетских корпусов в гимназии военного ведомства. Это значит – погоны снять, офицеров-воспитателей долой, а на их место штатских, роты переименовать в возраста. Приказ словно обухом всех по голове ударил, и начался полный разброд и шатание. Кто-то из ребят погоны снял, но большинство из принципа не снимает. Пошло разделение на «царских» и «демократов» (с погонами и без). Директор корпуса приказ о моем увольнении пока не подписывает – тянет время. Да и то дело: такое ощущение, что вся эта новация как-то не всерьез, не ко времени. Решить решили, но выполнять никто не торопится.
Впрочем, а что сейчас всерьез?.. Все какое-то игрушечное.
 Хуже другое: здесь началась так называемая украинизация. Украинизировались уже штаб округа, пехотное и артиллерийское училище, школы прапорщиков, запасные и пулеметные полки, артбатареи. Появилась Одесская гайдамацкая дивизия. Эти ходят в синих шинелях, погонах с шифровкой ГК, а кавалеристы – в малиновых жупанах. Выглядит опереточно, но всё это не шутка. Вполне всерьез разбираются, кто из офицеров украинец и кто нет, и если украинец, то почему говоришь не по-украински. Крейсера «Память Меркурия» и «Светлана» и эсминец «Завидный» подняли желто-голубые флаги. К тому же «Память Меркурия» переименован в «Гетьмана Ивана Мазепу». Корпус украинизация пока не трогает. Но и среди наших офицеров-воспитателей есть те, кто рассуждает про Украинскую Республику. Ходят слухи, что она будет объявлена в Киеве уже вот-вот. Такие разговоры заводят прежде всего со мной – из-за фамилии.
Хуже другое: здесь началась так называемая украинизация. Украинизировались уже штаб округа, пехотное и артиллерийское училище, школы прапорщиков, запасные и пулеметные полки, артбатареи. Появилась Одесская гайдамацкая дивизия. Эти ходят в синих шинелях, погонах с шифровкой ГК, а кавалеристы – в малиновых жупанах. Выглядит опереточно, но всё это не шутка. Вполне всерьез разбираются, кто из офицеров украинец и кто нет, и если украинец, то почему говоришь не по-украински. Крейсера «Память Меркурия» и «Светлана» и эсминец «Завидный» подняли желто-голубые флаги. К тому же «Память Меркурия» переименован в «Гетьмана Ивана Мазепу». Корпус украинизация пока не трогает. Но и среди наших офицеров-воспитателей есть те, кто рассуждает про Украинскую Республику. Ходят слухи, что она будет объявлена в Киеве уже вот-вот. Такие разговоры заводят прежде всего со мной – из-за фамилии.
Скажу тебе откровенно – мне это не по сердцу. Всегда любил всё украинское: у нас в Лёликове говорят на языке, где половина слов украинские. Но я не понимаю, почему нужно отдавать предпочтение одному перед другим. Почему нужно считать украинцев (латышей, русских, евреев – неважно) лучше прочих народов?! По-моему, в прежней армии с этим было правильно – никто не интересовался, какой ты национальности, а значение имело только то, как ты служишь. А раздел по принципу нации — это какая-то дикость.
Атмосфера в городе гадкая. На улицах то и дело выстрелы. Причем кто стреляет, неясно. Может, гайдамаки усмиряют пьяных солдат, которые громят коньячный завод, а может, бандиты воюют с милицией. Все привыкли. Идешь в город – рука на шашке, «наган» в кармане шинели, во втором кармане патроны россыпью. Только так.
Единственное, что греет душу, это то, что ко мне решила приехать моя Аня. Уволилась из московского лазарета и переехала в Одессу, где поступила в лазарет при корпусе. А три дня назад мы с ней обвенчались. Просто и скромно, без шума. Там же, в корпусе, и живем пока.
Ну и нашел же ты, братец, время жениться, скажешь ты!..
Так что на сердце, душе и в голове горько-сладко и тревожно. Прав ли я, что беру ответственность за Анину судьбу на себя в такое время?.. Не знаю, по чести сказать. Это если между нами. Но, как сказала Аня, время такое, что нужно быть вместе.
Что будет дальше?.. Все в руце Божьей.
О Карлуше и Юроне не знаю ничего. Надеюсь, живы оба.
Пожалуйста, пиши, а если будет возможность – то и приезжай.
Обнимаю, Иванко».
Сергей Семченко, ноябрь 1917 года, станция Красный Берег
…Генерального штаба подполковник Виктор Константинович Манакин снова поднес к глазам бинокль. Большевицкий бронепоезд шел на всех парах. Система Балля, с паровозом серии «Ов». Его было отлично видно и без цейссовской оптики, но ему почему-то хотелось изучить его поближе. Может быть, потому что еще никогда за 30 лет его жизни подполковнику Манакину не приходилось вести бой со своими же. Боевое крещение он, выпускник 2-го кадетского корпуса и Михайловского артиллерийского училища, получил в 1914-м, честно прошел войну от звонка до звонка, был награжден Георгиевским оружием и «Владимиром» 4-й степени с мечами и бантом… И вот как она заканчивается, эта война. Не в смертельной схватке с лютым иноземцем, пришедшим на нашу землю, а в бою со своими же. Он знал, что там, в теплушках, прицепленных к бронепоезду, едут большевизированные солдаты 60-го Сибирского стрелкового полка. Именно они будут атаковать сейчас бойцов 2-го Оренбургского и Юго-Западного ударных батальонов…
Но полно этих соплей – свои, не свои… Да, там, в 60-м Сибирском – не немцы и не австрияки. Это враг свой. Чтобы сражаться с внешним врагом, нужна просто храбрость. А чтобы с врагом своим – еще ум и гражданское мужество.
— Разрешите осколочным, господин подполковник? – К Манакину подошел командир горной трехдюймовки, молодой офицер с красно-черным «ударным» шевроном на правом рукаве шинели и тремя нашивками за ранения на левом. – У него бортовая броня восемь миллиметров…
— Отставить, поручик. Успеете еще настреляться…
Бронепоезд начал замедлять ход и в конце концов, устало отпыхиваясь, остановился. Дальше полотно было разобрано ударниками. Из теплушек, прицепленных к бронепоезду, начали выпрыгивать сибирские стрелки. Молча, сторожко, с винтовками навскидку, развернулись цепью и двинулись на позиции ударников. Шедший впереди унтер нес большой красный флаг.
— Рядом со знаменосцем офицеры идут, сволочи, — зло щурясь, произнес артиллерист. – Два прапора и подпоручик… На своих же!
— Забавно, господин подполковник, — раздался голос начальника пулеметной команды «Льюисов», штабс-капитана Сергея Семченко. – И они под красным, и мы под красным. Только у нас еще написано «Долой анархию!»
«Точно подмечено, — усмехнулся Манакин, — и мы за революцию, и эти за революцию. Только революцию в ноябре этого года все понимают по-разному…» Подполковник взглянул на Семченко. Ему импонировал этот молодой офицер, выпускник Полоцкого кадетского корпуса и Николаевского кавалерийского училища. Успел повоевать в кавалерии, потом, после тяжелого ранения, прошел всю войну на «Муромцах» пулеметчиком, летом вступил в ударный батальон на Юзфронте. После разгрома мятежа Корнилова он, как и десятки других «ударников», был арестован солдатами как контрреволюционер и чудом избежал самосуда. В те дни «ударники» в своем большинстве избавились от яркой и броской формы, остались разве что красно-черные шевроны на рукавах. Но сами ударные части расформированы не были. В батальоне, которым командовал Манакин, Сергей начальствовал над командой опытных «Льюисистов». Все это были хмурые, прожженные годами войны мужики, минимум ефрейторы, а чаще унтера и фельдфебели, в большинстве Георгиевские кавалеры, у каждого из которых был свой резон воевать до победного конца.
И вот теперь – первый бой со своими. Накануне, 16 ноября, несколько ударных отрядов – 1-й Финляндский, Юго-Западный, 4-й и 8-й Западные, всего 2500 человек при 50 пулеметах под общим командованием полковника Янкевского; 2-й Оренбургский из-за саботажа железнодорожников застрял в Жлобине, — прибыли в Могилёв, в Ставку, чтобы спасти от неминуемой расправы Верховного Главнокомандующего генерал-лейтенанта Духонина. Все уже знали, что большевицким правительством Духонин отстранен от должности за отказ начать немедленные переговоры с германцами о перемирии, что новым главковерхом назначен большевик прапорщик Крыленко и что эшелоны, набитые большевицкими матросами, уже движутся к Могилёву из Петрограда.
Янкевский тогда предложил Духонину немедленно уходить под защитой «ударников» в Киев или на Дон. Но главковерх отверг это предложение. Сергей присутствовал при этом разговоре в Ставке (он был в свите Янкевского) и помнил ответ моложавого черноусого генерала с «Георгиями» 3-й и 4-й степеней дословно:
— — Я приказываю вашим батальонам сегодня же покинуть Могилёв. Я не хочу братоубийственной войны. Тысячи ваших жизней будут нужны Родине. Настоящего мира большевики России не дадут. Вы призваны защищать Родину от врага и Учредительное собрание от разгона. Я сам имел и имею тысячу возможностей скрыться. Но я этого не сделаю. Я знаю, что меня арестует Крыленко, а может быть, даже расстреляет. Но это смерть солдатская.
Генерал говорил внешне сухо, официально, но видно было, что он волнуется. Разубеждать его не стали. Офицеры молча вскинули руки к козырькам фуражек, демонстрируя свое уважение решению, принятому главковерхом. Сергей помнил – выйдя из здания Ставки на Губернаторскую площадь Могилёва, молчали. С Днепра дул резкий, холодный ветер, продувавший улицы города насквозь. Шедшие навстречу солдаты местного гарнизона с красными лентами на папахах проводили убийственными взглядами. Но связываться с «ударниками» не стали: их было вчетверо больше, все при оружии, сразу видно – закаленные фронтовые волки, порвут на куски тут же, на площади…
— Как вы думаете, Виктор Константинович, почему Духонин принял такое решение? – спросил Семченко уже в теплушке. – Ведь он спокойно мог бы под нашей охраной уйти на Дон, к Каледину…
Манакин сухо усмехнулся.
— Видимо, такой вариант развития событий был для него неприемлем. Даже не признавая новое правительство, формально не подчиняясь ему, он попросту не может оставить свой ответственнейший пост «просто так», сбежать, бросив Ставку на произвол судьбы… — Подполковник помолчал. — Ведь война еще продолжается, и надо любой ценой сохранить центр управления армией. Возможно, он рассчитывает как-то договориться с Крыленко. Все же – прапорщик, офицер… А возможно, внутренне уже смирился со своей гибелью и решил принести себя в жертву новому режиму, ценой своей жизни спасти сотни других – наши жизни, жителей Могилёва, да тех же самых крыленковцев – пусть одурманенных большевизмом, но русских, своих…
 Вечером 19 ноября эшелоны с «ударниками» начали уходить из Могилёва в Жлобин. Последний, шестой поезд отправился глубокой ночью. А уже ранним утром на вокзал прибыли составы с большевиками. Сначала подошли два эшелона с отрядами Литовского полка, затем прибыл состав революционных моряков с Балтфлота. Последним пришел эшелон, в котором следовал новый главковерх Крыленко и его личная охрана.
Вечером 19 ноября эшелоны с «ударниками» начали уходить из Могилёва в Жлобин. Последний, шестой поезд отправился глубокой ночью. А уже ранним утром на вокзал прибыли составы с большевиками. Сначала подошли два эшелона с отрядами Литовского полка, затем прибыл состав революционных моряков с Балтфлота. Последним пришел эшелон, в котором следовал новый главковерх Крыленко и его личная охрана.
О дальнейшем Сергей уже много позже узнал из воспоминаний военного чиновника Неймана – юрисконсульта при Ставке, бывшего свидетелем формальной передачи дел Духониным новому главковерху. Сразу после этого Духонина на автомобиле отвезли на могилёвский вокзал.
«Перрон наполнен разношерстной публикой, — записал Нейман в дневнике, — толпой шатающихся, праздных и распущенных солдат, вихрастыми матросами с «Авроры», цинично-разухабистыми, хмельными, возбуждёнными.
В салон-вагон входят три матроса. У одного из них в руках плакат из серой оберточной бумаги с крупной надписью углем: «Смерть врагу народа — Духонину. Военно-революционный суд отряда матросов». Крыленко быстро вскакивает с места: «Товарищи! Оставьте! Генерал Духонин не уйдёт от справедливого народного суда!» Один из матросов подходит неуверенно к Духонину, и, тронув за плечо, бросает глухо: «Пойдём». Прапорщик Крыленко садится, склоняет голову к столу и закрывает пальцами глаза и уши.
На площадке вагона происходит короткая борьба. Духонин держится за поручни и, сильный физически человек, не уступает натиску трёх озверевших палачей.
Выстрел из нагана в затылок сваливает его с ног, изувеченное тело терзается ликующей толпой».
Изуродованные останки генерала еще целые сутки лежали на перроне могилёвского вокзала. С трупа убийцы сняли верхнюю одежду, сапоги, забрали часы и бумажник. Так погиб последний Верховный Главнокомандующий русской армии генерал-лейтенант Николай Николаевич Духонин. Ему было сорок лет… Это было 20 ноября 1917 года.
 …А в тот же день на забытой Богом станции Красный Берег недалеко от Жлобина 2-й Оренбургский и Юго-Западный ударные батальоны должны были сдержать на сутки продвижение красного бронепоезда, преследовавшего отходящих «ударников». Цепь солдат с красными лентами на папахах была уже близко. Шли молча, блестя штыками – русские на русских, впервые…
…А в тот же день на забытой Богом станции Красный Берег недалеко от Жлобина 2-й Оренбургский и Юго-Западный ударные батальоны должны были сдержать на сутки продвижение красного бронепоезда, преследовавшего отходящих «ударников». Цепь солдат с красными лентами на папахах была уже близко. Шли молча, блестя штыками – русские на русских, впервые…
— Пулемёты по моей команде, — коротко бросил Манакин Сергею и, поймав его утвердительный кивок, коротко скомандовал артиллеристам: — По изменникам Родины… огонь!
Короткоствольная горная трехдюймовка из команды траншейных орудий тяжело рявкнула, откатываясь назад. Снаряд вздыбил рыжую землю рядом с насыпью, по бронепоезду с противным звоном стегнули осколки. Взрыв отбросил несколько красных сибирских стрелков, но остальные упрямо продолжали продвигаться вперед.
– Ну что ж ты, Храмцов! – в ярости воскликнул поручик, потрясая кулаками перед лицом маленького рыжеусого старшего фейерверкера. – И это лучшее орудие в команде!.. Давно канониром не ходил? Лычки посрываю на хрен!..
– Сей секунд справим, господин поручик! – хрипло, с ненавистью в голосе выкрикнул рыжеусый, суетясь у пушки.
Вторая трехдюймовка ударила вернее, снаряд пришелся на знаменосца, и изрешеченный осколками красный флаг с переломанным древком лег на холодную землю. Одновременно по приказу Семченко на флангах короткими очередями заработали «Льюисы». Цепь красных, видимо, не ожидавших основательного отпора, быстро сломалась. Это были не сибирские стрелки набора 1914-го, тех пулеметы бы только разозлили. Кое-кто стрелял, отходя. Бронепоезд молчал, не вмешивался – может, у него было мало снарядов?.. В любом случае, пока отбились. Но Сергей понимал, что это ненадолго. Снова пойдут. Жлобин им нужен – важный железнодорожный узел, через него следуют все, кто уходит на Дон, к казакам, к генералу Каледину, не признающему большевицкую власть в столице.
…Сибирские стрелки откатились назад, под защиту бронепоезда. На земле темнели бугорки тел убитых. Тяжело дыша, перезаряжали винтовки, отряхивали ошметки холодной земли с шинелей. Тут же устроили митинг для воодушевления. Слово взял матрос с крейсера «Аврора», приехавший в отряде сопровождения нового главковерха. Имени его никто не знал, называли просто Пашкой.
— Товарищи!.. – хриплым голосом заговорил он. — Еще и месяца не прошло с тех пор, как власть в Петрограде перешла в руки большевиков. Страшно тяжело нам придется. Сами видите, как огрызается офицерская сволочь… Но разве можем мы подвести товарища Ленина, который ждет от нас победы?.. Разве можем сказать, что предадим дело мировой революции?.. Нет и еще раз нет! Трудно идти в бой, товарищи, тяжко подниматься на вражеские пулеметы. Но только не тот это бой, в который гнали нас три года помещики и капиталисты во главе с гнилыми царскими генералами. Это бой, в который идем мы сами. Это бой во имя того, чтобы наши дети и внуки увидели светлую зарю коммунизма над всем миром…
 Сибирские стрелки слушали матроса молча. У всех на шинелях и папахах красные ленты или просто обрывки красной материи, кое-кто обтянул красным кокарды и погоны с шифровкой «60 Сб.». Впереди трое молодых офицеров – два прапорщика и подпоручик. Тоже с красными лоскутами на папахах и шинелях. У каждого своя история, своя правда, своя причина воевать именно здесь, в этом полку, за мировую революцию…
Сибирские стрелки слушали матроса молча. У всех на шинелях и папахах красные ленты или просто обрывки красной материи, кое-кто обтянул красным кокарды и погоны с шифровкой «60 Сб.». Впереди трое молодых офицеров – два прапорщика и подпоручик. Тоже с красными лоскутами на папахах и шинелях. У каждого своя история, своя правда, своя причина воевать именно здесь, в этом полку, за мировую революцию…
— …Митингуют, — услышал Сергей насмешливый голос поручика-артиллериста. – Как вы думаете, Семченко, что сейчас происходит в Ставке?
Сергей вздохнул. Об этом ему не хотелось даже и думать. Вчера главковерх отказался от их защиты, не пожелал братоубийственной бойни. И вот сейчас эта бойня идет вовсю у станции Красный Берег.
— Не знаю, — излишне резко ответил он. – Знаю одно: нам нужно продержаться здесь хотя бы до конца дня, чтобы наши эшелоны успели оторваться от преследования.
— Это и так понятно, — вздохнул поручик. – А дальше что? Вот лично вы куда собираетесь?
Куда?.. Семченко сдвинул папаху на затылок, провел рукой по небритому лицу, машинально погладил давно нестриженные усы. Несколько минут назад он сам впервые в жизни стрелял из «Льюиса» по своим же. Ну ладно, по большевикам, но все равно ведь там, впереди, были не германцы, не австрияки, не турки. Свои, русские… Возможно, те же самые, кто еще год назад воевал с ним бок о бок. На душе было гадко, мерзко.
Действительно, куда дальше? На Дон, куда вчера отправился с Текинским полком освобожденный из быховского заточения генерал Корнилов?.. Или – черт с ней, с войной, ведь в мире есть отец, есть братья, старший Лев и младший Пашка, которые Бог весть где, но хочется верить, что в Одессе. Есть друзья – Юрончик, Иванко, Карлуша… Сберечь себя для них, для всей последующей жизни, не тратить бесценное на то, что творится кругом – непонятный, гибельный смрад, не встревать в тот кошмар, что рождается сейчас здесь, на станции Красный Берег?..
…А из-за серой громады бронепоезда снова выкатилась серая цепь под красным флагом. Впереди – матрос с «наганом» в руках, опоясанный пулеметными лентами. «Балтиец, — подумал подполковник Манакин. – Приехал вместе с Крыленкой».
— Слушай мою команду! По большевицкой сволочи, беглым… за Родину… огонь!!!
— За мировую революцию, за товарища Ленина… в атаку… ур-ра-а-а!..
…Этот день, 20 ноября 1917 года, вошел в историю как первый день Гражданской войны. Первые жертвы с обеих сторон, первая кровь Гражданской на нашей земле…
Юрий Варламов, декабрь 1917 года, Нью-Йорк – Саутгемптон – Хельсинки — Петроград
Одновременно с отворившейся дверью раздался мелодичный звяк колокольчика. Стоявший за стойкой бармен Майк, увидев Юрия, широко улыбнулся:
— Nice to see you, mister Varlamov! How you doing?
— Thank you, Mike, I’m fine. One coffee, please.
— OK, just a moment, sir…
Сняв мокрые от снега пальто и шляпу, Юрий пристроил их на вешалку и уселся за свой любимый столик у большого окна, выходившего прямо на тротуар Пятой авеню. Напротив сиял сквозь метель огнями ставший почти родным Фуллер-билдинг. За год в Нью-Йорке у Варламова появились любимые места, и это кафе как раз относилось к ним. Маленькое, уютное, стены в нем были завешаны плакатами иностранных пароходных компаний. Был даже русский «Кавказъ и Меркурiй», Бог весть как попавший сюда, наверное, оставили моряки как сувенир.
Бармен принес Юрию кофе и с улыбкой пожелал приятного аппетита. «В последний раз, — подумал Варламов, размешивая ложечкой сахар. – Странно, но больше я никогда здесь не посижу… И от комфорта, наверное, тоже придется отвыкнуть, в России, насколько можно судить по прессе, все уже иначе…»
Да, он возвращался в Россию. Шаг, который единодушно осудили все его сослуживцы по Заготкомитету. Сначала его просто не поняли, думали, что шутит. Потом, сообразив, что всерьез, начали отговаривать. Особенно старался Бразоль.
— Поймите, в Петрограде к власти пришли те самые наемники, материал на которых вы собирали здесь. Люди, купленные за американские и британские деньги. Люди, которые должны разрушить Россию до основания и на ее месте возвести принципиально новое, покорное Западу государство… И оно уже возводится! — Глаза Бразоля блестели лихорадочно-воспаленно. – Нет, мне кажется, вы все-таки не понимаете, куда возвращаетесь! И главное, зачем? Не объясните ли причину?
Юрий улыбался.
— Причин много. Личные – на поверхности: совсем плохо с отцом, мать выбивается из сил, а сестра ей не помогает из принципиальных соображений… Но и другие причины есть. Прежде всего мне стыдно.
— Но чего же?
— Того, что я сижу в тепле и пью кофе, в то время как в России происходят такие события. Кроме того, должен же я предоставить начальству отчет о проделанной за год работе. И… война продолжается. А армия, насколько я могу понять из газет, разваливается на глазах. В такие дни каждый офицер на счету…
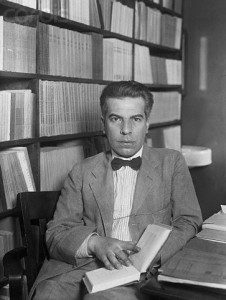 Бразоль нервно хрустнул пальцами.
Бразоль нервно хрустнул пальцами.
— Начинаю громить вас по пунктам. Первое – отчего вам стыдно? Вы же лично не участвовали в тех злодеяниях, которые творились в России с февраля, напротив, делали, что могли, чтобы их предотвратить и снивелировать их последствия… Второе — это не события, это национальная катастрофа, уясните вы это!.. Мы пытались спасти, предупредить, исправить, мы верили, что нас услышат, но мы обманулись в своих надеждах. У нас был единственный шанс на спасение – Корнилов, но Керенский предал его в августе и съел как политическую фигуру. После провала корниловского выступления никаких надежд на спасение уже не было. И теперь вместо прежней России — хаос, во главе которого – банда предателей и убийц во главе с Лениным! Та самая банда, с финансовой подоплекой которой вы так хорошо знакомы! И третье… Какому начальству вы собираетесь класть на стол ваши документы? Троцкому? Это не начальство, это бандит, захвативший наш родной дом. А прежнее начальство бежало, полностью дискредитировав себя… Что же до армии – вы всерьез думаете, что большевиков заботит продолжение войны? Да первое, что они сделали – это бросились заключать перемирие с немцами. Сейчас им гораздо важнее удержать власть, и плевать им на войну с внешним врагом. Так что даже если допустить, что ваше желание вернуться продиктовано светлыми чувствами, — это, извините, идиотизм. Здесь у вас есть связи, знакомства, возможность работать для возрождения России. Там же вас ждет просто смерть. Смерть!.. Сын генерала, потомственный дворянин, офицер, работал на разведку – этого же четыре смертных приговора одновременно!..
Юрий слушал Бразоля, в чем-то даже признавал его правоту, но это – умом. Сердцем же он понимал, что никакие умные доводы уже не могут поколебать его решения вернуться. Дальше сидеть в Америке ему было действительно стыдно.
Он внимательно читал русскую и иностранную прессу, подробно описывавшую все процессы, происходившие на его несчастной родине. Издалека следил за медленным распадом когда-то могучей армии, мучительно переживал позорный провал июльского наступления и сдачу Риги, от души сочувствовал генералу Корнилову, предпринявшему попытку навести в стране порядок, и негодовал, когда Керенский объявил главковерха изменником и заточил под стражу. Но октябрьский переворот, в ходе которого власть перешла к большевикам, для Юрия, владевшего всем объемом информации, научившегося сопоставлять и анализировать, был нисколько не удивителен. К этому подводила страну вся логика событий лета-осени 1917-го. Полностью дискредитировавшее себя и развалившее все сферы жизни страны Временное правительство было уже фикцией. Все безмерно устали от затянувшейся войны и никто не мог уже внятно объяснить, до какого именно «победного конца» нужно сражаться России. И как только появились люди, которые предложили народу простые и понятные лозунги, первым из которых был «Немедленное заключение мира», страна пошла за этими людьми, не обращая внимания ни на что другое… Да, это было беззаконие, да – переворот, и одобрять его умом Варламов не мог. Но не мог и понимать того, что дальше продолжаться тот хаос, который царил в России в марте-октябре 1917-го, уже не мог…
Да, Юрий знал, откуда люди, свергнувшие Временное правительство, получали деньги и кто стоял за их спинами. Но страна и в самом деле была глубоко, тяжело больна и нуждалась в лечении. Он знал это, видел и сам. Знал и другое: даже если его стране суждено пройти через страшные испытания, он не должен оставаться в стороне. Просто потому, что это его страна. Если Россия гибнет – что ж, надо гибнуть вместе с нею. А стоять (вернее, сидеть с кофе) и анализировать происходящее в сторонке – это не по-кадетски…
Чего греха таить, возвращался он и по личным мотивам. Дома, судя по письмам, было совсем худо – родители разругались с сестрой окончательно. И еще фотография Елизаветы Сиверс с некоторых пор стояла на столе в офисе Юрия… Чем больше он думал об этой барышне, тем отчетливее понимал, что не представляет своей жизни без нее.
Обратно предстояло возвращаться за свои деньги: Заготкомитет (естественно, не признавший власти большевиков, как не признавало его посольство России в САСШ) отказался оплачивать Юрию билет до Европы. Линию Нью-Йорк – Архангельск давно закрыли, пришлось покупать билет на английский лайнер «Олимпик», ходивший между Нью-Йорком и Саутгемптоном.
…Снова прозвенел колокольчик, и в кафе вошел еще один засыпанный снегом с головы до ног посетитель. В Нью-Йорке уже три дня мели настоящие русские метели. Аккуратно стряхнув снег с полей шляпы и заказав бармену «Кока-Колу», капитан Джеймс Мэддэн уселся напротив Юрия.
— Привет, Юрий. Наслаждаетесь последними мгновениями в Америке?
— Что-то вроде этого, — усмехнулся Варламов. – И заранее готовлюсь к русской зиме. Джеймс, я знаю, что ваше время ограничено, поэтому давайте сразу к сути дела. Что заставило вас назначить мне эту встречу?
Мэддэн хмыкнул.
— Скажу откровенно, Юрий: мне не хочется, чтобы вы ехали в Россию. Вы отправляетесь туда на гибель. Наверняка вам уже говорили об этом ваши коллеги, но они могут предложить вам только судьбу эмигранта, то есть неопределенность. А вот я хочу предложить вам остаться в Америке не в качестве русского, а в качестве американца.
— То есть?
 Бармен принес Мэддэну стакан и пузатую бутылку «Кока-Колы». Отпив глоток, капитан пристально взглянул на Юрия.
Бармен принес Мэддэну стакан и пузатую бутылку «Кока-Колы». Отпив глоток, капитан пристально взглянул на Юрия.
— Старой России больше нет, Юрий… На нее месте формируется новый проект. Отчасти его созданием пытаются управлять, но хаос, как вы знаете, своенравен, его развитие может свернуть куда угодно. В Америке очень мало кто по-настоящему понимает, что такое Россия и какую силу она представляет в мире – даже сейчас, когда на месте России зияет страшная черная дыра… Так вот, я предлагаю вам службу в аналитическом отделе одного из управлений нашего Генерального штаба. Русское направление в ближайшее время станет одним из главных, и ваша кандидатура кажется мне одной из самых перспективных.
Варламов молчал. Истолковав это по-своему, Мэддэн торопливо продолжил:
— У вас будут прекрасные возможности для карьерного роста, жилье, служебный автомобиль… Конечно, президентом Штатов вам не бывать, — капитан усмехнулся, — но в генералы вполне можете выйти. Вы же знаете, что во время нашей Гражданской войны в армии Севера воевал бригадный генерал Джон Бэзил Турчин, он же русский полковник Турчанинов?.. Кстати, русский кадет, как и вы в прошлом…
— Я знаю. Кажется, в старости он получал пенсию в 50 долларов и зарабатывал на жизнь уличной игрой на скрипке… Но дело не в этом. Я ценю ваше предложение, Джеймс, и благодарю вас, но в России есть такая пословица: «Где родился, там и пригодился».
— Что она означает?
— Что русский хорошо чувствует себя только в России. Какой бы она ни была. И любит Россию всякую. Даже в виде, как вы выражаетесь, страшной черной дыры.
Мэддэн хрустнул пальцами. Точно так же, как Бразоль недавно, мысленно улыбнулся Юрий. На протяжении этого года капитан Мэддэн стал для Варламова почти родственником. Он сопровождал Юрия во всех поездках по Штатам, знакомил с людьми и Нью-Йорком. Оба понимали, что к чему, и не усложняли жизнь друг другу: у обоих – служба. И теперь Юрий нисколько не обиделся на предложение Мэддэна. Он знал, что американский разведчик искренне симпатизирует ему и желает добра.
По Пятой авеню, кутаясь в пальто, бежали прохожие, плыли в клубах снежной пыли машины. Фуллер-билдинг, в котором прошел год его жизни, разрезал носом декабрьскую снежную кашу, словно гигантский корабль. На его фасаде подмигивали разноцветные электрические лампочки рекламы рождественской распродажи…
После большой паузы Мэддэн крепко пожал Варламов руку.
— Вы настоящий офицер, Юрий. Если решили действовать – действуйте с Богом… И вот вам моя визитная карточка. Если судьба снова сведет нас вместе, я буду очень рад.
Всю дорогу до Саутгемптона Юрий помнил, что «Олимпик» — родной брат «Титаника» и «Британника», а судьбы у этих кораблей были невеселыми: первый затонул после столкновения с айсбергом в 1912-м, второй подорвался на мине, выставленной германской субмариной. Но все прошло хорошо. Большинство пассажиров на «Олимпике» были американскими офицерами и солдатами, возвращавшимися после отпусков в Европу. Когда окрашенный в причудливый зебровый камуфляж четырехтрубный гигант с номером Т2810 на борту вошел в британские территориальные воды, его принял конвой из четырех американских крейсеров, и через день «Олимпик» бросил якорь в Саутгемптоне.
Задержаться на какое-то время в Великобритании и осмотреть Лондон было бы соблазнительно, но Варламов торопился домой. Билет до Гельсингфорса ему продали тут же, в Саутгемптоне, в конторе компании «Уайт Стар Лайн». Дальше можно было не волноваться – плыть предстояло на пароходе «Кунг Густав V», ходившим под флагом нейтральной Швеции, ему германские подводные лодки не угрожали. Правда, пароход заходил на несколько часов в Стокгольм, но других вариантов попросту не было.
Гельсингфорс ничем не напомнил Юрию тот беспечный и внешне мирный город, который он видел, возвращаясь из плена весной 1915-го. Казалось, он был весь скован лютым морозом. Везде виднелись красные флаги с изображением желтого льва посередине, в витринах магазинов были выставлены большие фотографии седоусого человека в штатском. Как объяснил Варламову извозчик, перевозивший его багаж с пристани на вокзал, 6 декабря Финляндия провозгласила независимость от России, ее столица отныне называлась не Гельсингфорс, а Хельсинки, а седоусый человек – это «Укко Пекка», старина Пекка, как звали в народе председателя финского Сената Пера Свинхувуда.
В поезд до Петрограда сели буквально несколько человек. В вагоне первого класса стоял лютый холод, и через полчаса Юрий натянул на себя все теплые вещи, которые у него с собой были. Утром поезд затормозил на пограничной станции Белоостров, и сердце Варламова забилось чаще: наконец-то он снова был в России. Уже не в той стране, из которой уезжал чуть больше года назад. Чего только не случилось за этот год!..
Отдышав на замерзшем стекле крошечный пятачок, он увидел развевавшийся над перроном большой красный флаг. В коридоре вагона гулко прозвучали шаги, раздался требовательный стук в дверь.
— Пограничный контроль, откройте!
Юрия удивила и покоробила резкость требования. Но еще больше удивил внешний вид людей, стоявших на пороге купе. Вместо щеголеватых офицеров Отдельного корпуса Пограничной стражи перед ним была какая-то странная троица – солдат в шинели с винтовкой, матрос в бескозырке с надписью «Заря Свободы», увешанный гранатами по поясу, и усатый человек лет сорока, которого Варламов мог бы принять за офицера, если бы не отсутствие кокарды на папахе и погон на шинели.
— Во дела! – недоброжелательно пробасил солдат, глядя не на Варламова, а на золотые погоны его шинели. – Эт-то что еще такое? Ты чего с погонами ходишь, а?..
Юрий ничего не нашелся сказать от изумления, но тут вмешался усатый лет сорока:
— Сейчас разберемся, Егоров! Ваши документы.
Внимательно изучив документы Варламова, усатый обернулся к своим спутникам и строго произнес:
— Гражданин долго был в командировке за границей и не знает изменений, которые произошли в форме одежды. Гражданин Варламов, — повернулся он к Юрию, — потруднтесь снять с шинели и френча погоны, а с папахи – кокарду.
На какую-то секунду Юрию показалось, что усатый шутит. Но троица смотрела на него вполне серьезно.
— Однажды мне уже делали такое предложение, — усмехнулся Варламов. — Но это было в германском лагере Нейссе, два с лишним года назад. Угадайте, что я ответил…
— Слышь ты! – хамски повысил голос матрос. – А ну снимай свои цацки, не то мозги на стену!
— Ракитин, выйди в коридор! – жестко оборвал матроса усатый. – И ты тоже, Егоров.
Матрос и солдат нехотя вышли. Усатый плотно прикрыл за ними дверь.
— Вижу, что вы действительно не понимаете того, что происходит, — неожиданно доверительно произнес он, глядя Юрию в глаза. – Так вот, 16 декабря в России отменены все чины, ордена и знаки различия. Взамен введено единое звание – солдат революционной армии.
— Как – отменены?
— Вот так. Ношение погон и орденов запрещено.
Варламов ошеломленно перевел дыхание:
— Но… как же теперь различать командиров и подчиненных? И почему отменены честно заработанные в бою награды?
Усатый человек грустно улыбнулся.
— Я понимаю ваши чувства, штабс-капитан, — тихо произнес он. — Я сам – бывший ротмистр Отдельного корпуса Пограничной стражи. Но за ношение погон теперь вас могут попросту убить. Заколоть штыками где-нибудь в грязной подворотне… Я вижу, что у вас была возможность остаться за границей, но вы решили вернуться, и наверняка у вас были на то причины. Так вот, не губите себя в самом начале. Послушайте моего совета – примите правила игры. Снимите их. В конце концов, это просто погоны. Не выбрасывайте их, спрячьте на дне чемодана… до лучших времен. И сохраните себя для семьи, близких и Родины. А я сделаю в вашем пропуске специальную пометку, которая облегчит вам жизнь в Петербурге.
В глазах бывшего ротмистра-пограничника Юрий увидел такую же боль, какую сейчас испытывал он сам. И, может, именно эта боль помогла ему молча снять с папахи кокарду, отстегнуть с френча погоны, а с шинели – спороть их так, что остались лишь уродливые рваные следы на серой ткани…
Кажется, Юрий плакал при этом…
Петербург ошеломил Варламова сразу же. В выстуженном лютым холодом городе, казалось, господствовали только два цвета – серый и красный. Серыми были дома, небо, снег, лед на застывшей Неве, лица редких прохожих и шинели на них; красными – бесчисленные флаги и лозунги, висевшие где только можно. Не было и намека на грядущую радостную Рождественскую суету. Не сияли светом витрины магазинов и окна богатых квартир в огромных домах, не звонили празднично храмы, не было ни лихачей, ни дорогих автомобилей… Только грузовики, переполненные вооруженными солдатами и матросами, с глухим воем проносились по проспектам и улицам, словно патрулируя что-то – может быть, территорию Революции.
На привокзальной площади Юрий надеялся взять извозчика, но никаких намеков на извозчиков там не было. Зато на выходе с платформы рядом с костерком топтался патруль из трех вооруженных солдат, которые пристально и недоброжелательно проверяли документы у немногочисленных сошедших с поезда пассажиров. Юрия они рассмотрели с ног до головы, как какой-то редкостный экспонат, но пропустили тем не менее без придирок: видимо, сыграла свою роль сделанная пограничником пометка в пропуске.
— Не подскажете, где можно найти ломовика? – спросил Юрий у старшего патруля (погон на солдатах не было, поэтому старшего он определил на глазок). – Мне нужно доставить вещи на Васильевский остров.
— И так допрешь, — пренебрежительно отозвался тот, глядя в сторону. – Не царский режим…
«Переть» предстояло долго – через всю Петербургскую сторону. На обледеневшем Самсоньевском мосту Юрий поскользнулся и упал, что вызвало веселый смех большой группы проходивших мимо матросов. Один из них беззлобно пнул ногой отлетевший в сторону чемодан Варламова. Линия Кронверкского проспекта чем-то напоминала рот с выбитыми зубами – среди каменных многоэтажек зияли провалы на месте разобранных деревянных домишек.
Мытный мост, ведущий с Петербургского острова на Васильевский, тоже был обледеневшим. Но как Варламов ни спешил домой, он все же невольно остановился, любуясь таким родным с детства, таким забытым видом – Стрелка, здание Биржи, Ростральные колонны… Он поймал себя на том, что за год в Нью-Йорке отвык от масштаба европейских городов – и Саутгемптон, и Стокгольм, и Гельсингфорс показались ему маленькими, приземистыми и пустынными, а Петербург – так просто вымершим.
Когда Юрий добрался наконец до дома, он уже изнемогал от усталости. Парадный подъезд в дом был почему-то забит досками, идти пришлось с черного хода по загаженной замерзшими помоями лестнице для прислуги. Таблички с надписью «Генералъ-лейтенантъ Владимиръ Петровичъ ВАРЛАМОВЪ» на двери не было, звонок не действовал. Юрий долго колотил кулаком в дверь, прежде чем звякнула цепочка, и на него недоверчиво взглянули из приоткрывшейся щели исплаканные темные глаза какой-то незнакомой пожилой женщины. «П-простите…» — оторопел Варламов, но уже в следующую секунду дверь распахнулась, и у него на шее повисла рыдающая мать, мама, седая, изможденная, одетая в какие-то страшные обноски…
— Боже мой, Юрочка, это ты! Живой! Слава Богу!..
— Здравствуй, мамочка, — с трудом сдерживая волнение, выговорил Юрий. – Всё, всё в порядке, я уже дома…
— Добрался! Господи, не верится, ты словно с другой планеты… Проходи же, проходи. Бери веник. Прислуги нет, Агаша еще в августе уехала к себе в деревню…
— А Юлька где? – спросил Юрий, обмахивая веником налипший на сапоги снег.
Лицо матери мгновенно замкнулось и погасло.
— Пожалуйста, не упоминай ее имени в этом дома. Особенно при папе. Пойдем к нему, ему трудно ходить, совсем ноги плохи стали…
Лицо Владимира Петровича показалось Юрию синюшно-белым, неживым. Но оно все-таки жило, это лицо, на нем жили глаза, полные любви и страдания. Генерал лежал в спальне под горой одеял. Через силу подняв исхудавшую руку, он коснулся щеки сына и слабо улыбнулся. Юрий почувствовал, как слезы помимо воли покатились у него по лицу и закапали руку отца… Тот нахмурился.
— Вот тебе и раз, штабс-капитан Варламов… А ну отставить! Что это за слезы в присутствии генерала? – Отец снова слабо улыбнулся. — Как ты добирался, Юра?
— Пароходом, через Англию и Финляндию, а оттуда поездом.
— Ну, слава Богу. Иди раздевайся, отдыхай, после зайдешь ко мне, поговорим обо всем.
— Да-да, Юрочка, ступай, а я пока дров наколю, — добавила мать.
— Что-о? – изумился Юрий.
— Так ведь отопление не работает. Топим спальню да гостиную. Хорошо, что на соседней линии несколько деревянных домов на дрова разобрали, до этого приходилось дверьми топить…
— Дверьми?!
— Да, просила соседей снимать и рубить на дрова двери. Увидишь потом, у нас в некоторых комнатах дверей нет… Ну и полный свод законов Российской империи помог, тоже хорошо горел. А вот Военную энциклопедию и Брокгауза-Ефрона папа сжигать не дал.
Юрий решительно перехватил у матери топор. Разномастные дрова – по виду обломки какого-то дома — были свалены в кучу у голландской печи, которую он помнил с детства. Но тогда она бездействовала, служила только украшением комнаты. Теперь же столичные жители снова вернулись к печному отоплению.
За колкой дров Юрий обратил внимание на то, что мебели в комнатах стало заметно меньше, из столовой исчезла люстра. Электрические лампы не горели. Заметив взгляд сына, мать вздохнула:
— Электричество три часа в сутки работает. Только к вечеру дадут. А недавно вообще пять дней подряд света не было. Керосину дают фунт на десять дней, на рынке он 600 рублей стоит…
— Сколько? – поразился Юрий.
— Привыкай, — болезненно улыбнулась мать. – Свечу за 300 можно найти, коробок спичек за 50… Мебель и люстру снесли на рынок, тем и живем. Отец еще получает какую-то пенсию, но и ту отберут со дня на день. ИМ же такие люди не нужны, у НИХ есть свои кадры, как ОНИ любят говорить…
Эти резко подчеркутые интонацией «Им», «Они» заставили Юрия, подкладывавшего поленья в огонь голландки, недоуменно поднять брови.
— ОНИ – это большевики, — пояснила мать. – Впрочем, ОНИ скоро падут, так что не стоит разговора… Пей кипяток. Слава Богу, хоть водопровод пока действует, хотя и это ненадолго – говорят, скоро трубы полопаются… Сахару уже давно нет, даже по карточкам. Впрочем, как и всего остального. Год назад все так возмущались карточками на сахар — мол, проклятый царизм, сахару не хватает… А при торжестве демократии по карточкам вообще все стали продавать. Ты, слава Богу, этого не застал…
— Боже, какой я идиот!.. Я же продукты привез, — заторопился Юрий, выставляя на стол из чемодана банки с сардинами, ветчиной, плавленым сыром, выкладывая банки с кофе и сгущённым молоком. – Меня предупредили, что в Россию теперь надо везти продукты. Вот, американские…
— Господи, да тебя же за них убить могли на улице! – охнула мать, дрожащими руками беря банку консервов. – По нашим меркам это неслыханное богатство!
За завтраком Юрий все-таки не удержался и спросил:
— Мам, а что с Юлей такое? Как именно вы с ней рассорились?
Мать вздохнула, с неохотой отложила недоеденный бутерброд.
— Юля после большевицкого переворота совсем взбесилась. Она еще с марта ходила как пьяная, а теперь вообще с цепи сорвалась. Вступила в какой-то там райсовет или горком, не знаю точно и не хочу знать… Ходила в черной кожаной куртке, с «наганом» за поясом, как ОНИ любят ходить… Постоянно твердила нам с папой, в каком мы долгу перед народом, говорила, что мы – отмирающая плесень, которую нужно выжечь каленым железом. А потом и вовсе съехала. От этого стало только легче… А ты? – Мать пристально посмотрела на Юрия. – Что собираешься делать ты?
— Для начала – выспаться. Потом пойду с докладом в Главный штаб, нужно же сдать отчет о проделанной работе. Ну а дальше… Поживедм – увидим, как сказал ночной сторож и проснулся днем.
В огромном стылом здании Главного штаба Юрия долго гоняли из кабинета в кабинет. В каждом из них сидел человек в шинели без погон, по виду напоминавший бывшего офицера, но все они, узнав, зачем пришел Варламов, либо изумленно округляли глаза и разводили руками, либо отделывались неприязненным «Не в моей компетенции, ничем не могу помочь».
И только в шестом по счету кабинете Юрия принял высокий, коротко стриженый усатый человек лет 45, чем-то неуловимо похожий на кавказца. Как и прочие, он был в шинели без знаков различия. Он внимательно выслушал Юрия, принял у него рапорт и протянул большую холодную ладонь.
— Ну что же, давайте знакомиться. Начальник Генерального штаба и управляющий делами Наркомата по военным и морским делам Потапов Николай Михайлович, бывший генерал-лейтенант.
«Ого! – подумал Юрий, невольно вытягиваясь по стойке «смирно». – Прежде я и мечтать не смел о том, чтобы со мной лично беседовал начальник Генштаба. Очевидно, в революционной армии нравы куда проще, чем в прежней».
— Здравия желаю, господин генерал-лейтенант!
— Бывший, бывший, — поправил Потапов. – Отвыкайте от этого. Чины и звания отменены, отныне все – солдаты революционной армии… И не господин, а товарищ.
— Виноват, го… товарищ… — сбился Юрий.
— За проделанную вами работу – спасибо, за то, что вернулись на Родину – тем более, — не обращая внимания на его заминку, произнес Потапов. — Чем же вы намерены заниматься дальше?
— Мне хотелось бы получить назначение в Действующую армию, — решительно произнес Юрий. — Ведь война продолжается, и…
 Обитатель кабинета усмехнулся, и Варламов невольно умолк.
Обитатель кабинета усмехнулся, и Варламов невольно умолк.
— Война? С 4 декабря на всем русско-германском фронте действует перемирие, боевые действия прекращены.
— Но фронт ведь есть…
— Пока есть. Вот свежие данные из Минска по Запфронту, — бывший генерал взял со стола машинопись, — на нем 150 тысяч активных штыков. Всего десять дивизий комплекта мирного времени… Армия демобилизуется. Части, которые остаются на позиции, по большей части небоеспособны. И вот в такую армию вы хотите?
— Да, хочу…
— Почему?
— Я кадет.
— В смысле – конституционный демократ?
— Нет, нет… Выпускник кадетского корпуса.
Бывший генерал хмыкнул, погладил усы.
— Ну, тогда можете не объяснять ничего. Я сам здесь, в общем-то, потому же… Вы какой корпус заканчивали?
— Полоцкий, выпуск 1910-го.
— А я 1-й Московский, выпуск 1888-го… — Потапов задумчиво улыбнулся, и его жесткое, ледяное лицо внезапно стало совсем другим. — Нам всегда было присуще обостренное чувство ответственности за то, что происходит в стране и армии. Когда всё плохо, кадет не может стоять в стороне. Он обязан что-то предпринимать…
— Так точно. Именно поэтому я вернулся из Америки.
Бывший генерал внимательно взглянул на него.
— На фронте вас могут убить. И не германцы, а свои же. Знаете об этом?
— Догадываюсь…
— Наверняка у вас есть семья… Мать, отец, жена, дети…
— Жены и детей пока нет…
— Здесь написано, что в Действующую армию вам нельзя – вы были отравлены газами в июне прошлого года…
— Мне уже совсем хорошо, — твердо произнес Варламов. – Иногда покашливаю, и всё.
Потапов задумчиво постучал пальцами по его послужному списку, лежавшему на столе.
— Ну хорошо. Зайдите ко мне через пару дней, постараюсь сделать для вас, что смогу…
Из Главного штаба Юрий отправился на вокзал. Он нарочно решил пройтись пешком по Невскому проспекту, чтобы в деталях рассмотреть новый для него революционный Петербург. Ведь он уезжал отсюда, страшно подумать, в сентябре 1916-го!..
В начинавшихся декабрьских сумерках проспект был едва освещен (причем не электрическими, а газовыми и керосиновыми фонарями), редко в каком доме светилось окно. Снег с панели никто не убирал. Местами смерзшиеся сугробы были такой высоты, что доставали до фонарей. Трамваев, автомобилей и извозчиков навстречу не попадалось. И это на Невском!..
Мало-помалу пустынный, молчаливый город начал пугать Юрия — в особенности на контрасте с вечно гудящим Нью-Йорком. Петербург напоминал теперь театральную декорацию или заброшенное кладбище. Ирреальность происходящего усугубляли изредка попадавшиеся навстречу прохожие – закутанная в шаль бабка или худой солдат в шинели. Они молча возникали из ниоткуда и так же молча пропадали в никуда, словно зловещие персонажи немой кинофильмы или когда-то виденной в Мариинке оперы…
Некоторое оживление наблюдалось только на Николаевском вокзале. Отстояв громадный «хвост» у окошка кассира (попутно Варламов отметил, что интеллигентных лиц в этом «хвосте» не было вовсе), Юрий поинтересовался, сколько стоит билет до Москвы. В ответ кассир изумленно взглянул на него:
— Что значит – сколько стоит?
— То и значит.
Кассир вздохнул.
— Гражданин, вы с Луны свалились, что ли?.. В Москву давно уже можно уехать только по командировке. У вас командировка имеется? Ну, от какой-нибудь конторы?
— Н-нет… А как ее можно получить?
— Поступить на какую-нибудь службу, которая выдает командировки, — иронично пояснил кассир. — Проходите, не задерживайте. Следующий!..
На душе мгновенно стало пусто и холодно. Не обращая внимания на насмешливые реплики в его адрес, Юрий выбрался из очереди и вышел на обледеневшую привокзальную площадь. «Значит, Лизу повидать никак не удастся просто потому, что из Петербурга невозможно выехать?..»
И всю долгую дорогу до Васильевского (единственный трамвай, обогнавший его, был увешан людьми до самой крыши, и Юрий даже не попытался в него сесть) он думал уже только об этом.
Через два дня бывший генерал Потапов снова принял его в своем кабинете. Разговор оказался коротким: Юрий получал назначение в контрразведывательное отделение штаба Западного фронта. В Минск нужно было выезжать немедленно.
На вокзал его не провожал никто. Длинный поезд, состоявший из трех синих, восьми зеленых вагонов и двадцати теплушек, на дверях которых еще виднелись старые, довоенные надписи «Варшава – Лодзь. 40 человек, 8 лошадей», пыхтел на какой-то дальней линии Царскосельского вокзала. Вместо проводника у синего вагона стоял какой-то тип в шинели, который не меньше пяти минут недоверчиво изучал выданную Юрию командировку и наконец буркнул «Залезайте».
В вагоне царил лютый холод. Плюшевая обивка сидений была вырвана с корнем, вместо бронзовых светильников на стенках торчали оборванные провода. В одном с Юрием купе оказались трое мужчин лет сорока на вид, как он тут же определил – бывшие офицеры из штабных. К общению никто из них не стремился: сухо, корректно поздоровались и тут же углубились в чтение: кто – служебных бумаг, вынутых из портфеля, кто затрепанного романа.
А Варламов, глядя в отдышанный им на заиндевевшем окне пятачок, думал о том, что час назад он потерял мать и отца. Врать им о своем новом месте службы он не стал. И теперь снова и снова заставлял себя вспоминать о том, каким неторопливым, брезгливым жестом убрал руки за спину отец, как подернулись ледяным холодом глаза мамы, узнавших, что их сын пошел на службу к большевикам…







