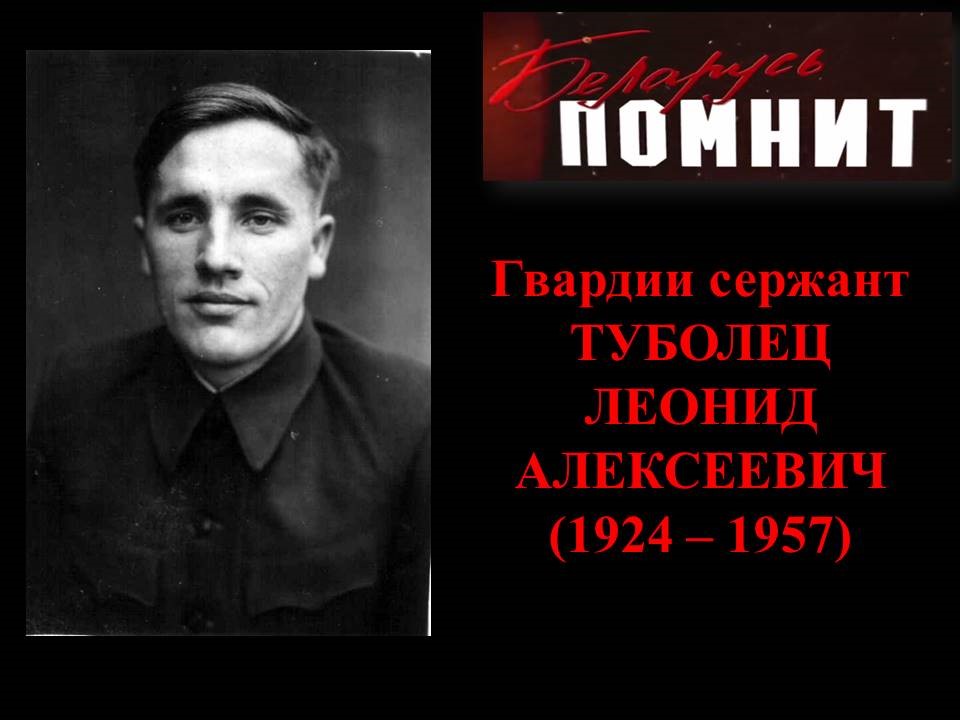ВЯЧЕСЛАВ БОНДАРЕНКО
ЧЕТЫРЕ СУДЬБЫ. ОДНА РОДИНА.
Роман
68
Иван Панасюк, 3 октября 1941 г., Белград
Белградский вокзал оглушил Ивана Павловича многоголосым людским гулом и суетой. Несколько минут он просто стоял на платформе, привыкая к темпу столичной жизни. После тихой маленькой Белой Црквы, где любой лай собаки считался событием, Белград, как всякая столица, выглядел настоящим сумасшедшим домом. В последний раз Панасюк был здесь в начале года, еще до войны, вот и отвык…
В Белград он приехал по хозяйственным делам корпуса. С июля занятий не проводилось, когда они возобновятся, никто не знал, но директор, генерал Попов, был уверен, что будущее у корпуса в условиях германской оккупации все-таки есть, а значит, нужно заранее озаботиться материальной составляющей жизни кадет. Нужно было переговорить с теми немногими людьми, которые и раньше поддерживали корпус деньгами и прочими способами – кто дровами, кто обувью, кто книгами. Кроме того, Панасюку было поручено зайти в учебный отдел Бюро по защите интересов русской эмиграции и, что называется, понюхать воздух. Иногда самые важные новости узнаются именно так – в мимоходных разговорах с не самыми важными чиновниками.
Было у Ивана Павловича и еще одно, внешне не самое главное задание — Стана Мирчич попросила его купить перьев для учеников ее класса. После памятного приезда из Глины в Белу Цркву Стана поселилась у дяди, в одном доме с Иваном Павловичем. Она быстро нашла работу в местной школе. Но пережитая в ночь на 30 июля психологическая травма еще мешала девушке жить – по ночам Стана кричала и рыдала, а иногда впадала в ступор: просто сидела и часами смотрела на гладко беленую стену кухни. В такие минуты Воислав и Иван Павлович пытались как-то вытащить ее из черной пропасти, в которой она оказалась. И мало-помалу Стана оттаивала, ее черные глаза оживлялись, она снова начинала разговаривать…
Погода была серая, промозглая, к тому же с близкой реки Сава дула кошава – сильный холодный ветер. Насколько приятна в Белграде ранняя осень, настолько же неприятна поздняя. Кутаясь в пальто и подгоняемый кошавой в спину, Панасюк миновал шумную площадь Савски Трг и направился в центр города. Он неплохо знал Белград еще с начала 1920-х и искренне любил столицу Югославии – город, обладавший неповторимым, ни на что не похожим очарованием. Теперь он был покорен врагом. Этот враг то и дело попадался Ивану Павловичу на улицах, он надменно смотрел из окон проезжавших мимо машин, его лающая речь звучала в магазинах и кафанах, этот враг развесил повсюду свои флаги с паучьей свастикой. Панасюк старался не смотреть на них, но они нагло, настырно лезли в глаза. Правда, рядом с ними висели и трехцветные флаги, внешне похожие на югославские, только сочетание цветов было теперь другим: на довоенном флаге синий, белый и красный сверху вниз, а теперь – красный, синий и белый, да еще двуглавый орёл поверху. Это был флаг новой Сербии, которая теперь считалась независимой. А рядом с портретами Гитлера в витринах магазинов стояли фотографии премьер-министра Милана Недича. 28 августа этот югославский генерал, чья 3-я армия еще в апреле сражалась с вермахтом в Македонии, присягнул на верность Гитлеру и возглавил «Правительство национального спасения»…
 Кое-где на улицах еще громоздились не убранные после апрельской бомбардировки Белграда руины. В одном месте стена дома рухнула прямо на проезжавший мимо трамвай, и его искалеченная коробка виднелась из-под груды балок и кирпичей. Везде – на стенах домов, на плакатах, на бортаэ тех же трамваев, – чернела крупная буква V. Ее нарисовали по приказу немцев еще летом, сразу же после первых побед вермахта в России. «Почему именно V? – думал Панасюк, одолевая ведущий в гору тротуар. – Может, решили позаимствовать у Муссолини его любимый лозунг «Vinceremo» — Победим?»
Кое-где на улицах еще громоздились не убранные после апрельской бомбардировки Белграда руины. В одном месте стена дома рухнула прямо на проезжавший мимо трамвай, и его искалеченная коробка виднелась из-под груды балок и кирпичей. Везде – на стенах домов, на плакатах, на бортаэ тех же трамваев, – чернела крупная буква V. Ее нарисовали по приказу немцев еще летом, сразу же после первых побед вермахта в России. «Почему именно V? – думал Панасюк, одолевая ведущий в гору тротуар. – Может, решили позаимствовать у Муссолини его любимый лозунг «Vinceremo» — Победим?»
Узкой Балканской улицей, ведущей от Савы, Иван Павлович поднимался вверх, к центру. Миновал улицу Ломина, свернул направо, на улицу Кралицы Натальи, а потом налево, на коротенькую улицу Косовке Девойке, и вышел на широкую шумную улицу Краля Милана. А когда добрел наконец до четырехэтажного здания отеля «Москва», что по левую руку, если идти к центру, Панасюк почувствовал такую усталость, что вынужден был зайти в кафану на первом этаже отеля и присесть, чтобы перевести дыхание. Все-таки когда тебе под пятьдесят – это совсем не то, чем когда тебе двадцать… К Панасюку тут же подлетел официант, пришлось заказать кофе. Его в «Москве» все еще продолжали сервировать так, будто не было войны: на одном подносе джезва, стакан воды, лукум и кусок рафинада.
Сидя у огромного, во всю стену, окна кафаны «Москва», Панасюк попивал вкуснейший кофе, отдыхал и поглядывал по сторонам. Это был столичный перекресток, где сходились разные пути. Влево уходила главная улица города – Кнеза Михаила, у «устья» которой находилось самое высокое здание столицы, чудом уцелевшее во время апрельской бомбежки – 13-этажный угрюмый небоскреб «Албания», называвшийся так по размещенной там популярной кафане. Чуть дальше, в глубине, — здание Народной скупщины и королевский дворец, рядом с которым еще год назад размещалось русское посольство и развевался русский флаг. А сама «Москва» вот уже тридцать с лишним лет, с 1906-го, служила любимым местом встреч белградцев.
 Сейчас, в обеденное время, кафана была полна народу. Через столик от Панасюка сидели трое офицеров вермахта и какой-то штатский. Немцы сидели лицами к Ивану Павловичу, и он видел их спокойные, расслабленные глаза, ленты Железных крестов на мундирах (во время Великой войны они были черно-белыми, а теперь, при Гитлере, черно-красными), слышал размеренные голоса. Минут через пять немцы встали, штатский тоже поднялся, прощаясь с ними. На мгновение он повернулся к Панасюку профилем, и Иван Павлович с удивлением узнал в незнакомце генерал-майора Бориса Александровича Штейфона, который в 1921-м был комендантом лагеря Галлиполи. На Великой войне Штейфон, насколько помнил Панасюк, служил на Кавказском фронте, в штабе Юденича, в Гражданскую воевал у Деникина, а в генералы был произведен Врангелем. В Югославии они познакомились на одном из вечеров в белградском Русском доме, года три назад, говорили тогда, помнится, о кадетском образовании, но с тех пор не виделись: у генералов в эмиграции был свой круг общения, у офицеров – свой. Но, видимо, Штейфон запомнил Панасюка, потому что первым шагнул к нему.
Сейчас, в обеденное время, кафана была полна народу. Через столик от Панасюка сидели трое офицеров вермахта и какой-то штатский. Немцы сидели лицами к Ивану Павловичу, и он видел их спокойные, расслабленные глаза, ленты Железных крестов на мундирах (во время Великой войны они были черно-белыми, а теперь, при Гитлере, черно-красными), слышал размеренные голоса. Минут через пять немцы встали, штатский тоже поднялся, прощаясь с ними. На мгновение он повернулся к Панасюку профилем, и Иван Павлович с удивлением узнал в незнакомце генерал-майора Бориса Александровича Штейфона, который в 1921-м был комендантом лагеря Галлиполи. На Великой войне Штейфон, насколько помнил Панасюк, служил на Кавказском фронте, в штабе Юденича, в Гражданскую воевал у Деникина, а в генералы был произведен Врангелем. В Югославии они познакомились на одном из вечеров в белградском Русском доме, года три назад, говорили тогда, помнится, о кадетском образовании, но с тех пор не виделись: у генералов в эмиграции был свой круг общения, у офицеров – свой. Но, видимо, Штейфон запомнил Панасюка, потому что первым шагнул к нему.
 — Капитан Панасюк?.. Вот не ожидал вас встретить в Белграде! Галлиполиец галлиполийца видит издалека…
— Капитан Панасюк?.. Вот не ожидал вас встретить в Белграде! Галлиполиец галлиполийца видит издалека…
— Здравия желаю, Ваше Превосходительство, — вставая, поприветствовал Панасюк старшего по чину.
— Иван Павлович, коли память не подводит?
— Так точно.
— Что привело в столицу, если не секрет?
— Секрета нет. Хозяйственные заботы. Занятий в корпусе пока нет, но мы надеемся, что весной следующего года они возобновятся. Детей надо будет кормить, а в нынешних условиях меценаты, знаете, почти перевелись. Вот надеюсь всё же на милость Божью и людскую…
Штейфон сочувственно кивнул и неожиданно присел за столик Панасюка.
— А знаете что? У меня к вам есть разговор.
— Слушаю, Ваше Превосходительство, — удивленно отозвался Иван Павлович.
К столику подлетел официант. Штейфон быстро заказал бокал вина «Крстач» и негромко заговорил:
— Вы знаете, Иван Павлович, что большое количество сербов охвачено сейчас симпатиями к большевикам и Сталину. Знаете и о том, что после нападения Германии на Советскую Россию в югославской провинции начались расправы над русским населением…
— Ну, Белой Црквы это, к счастью, не коснулось, — заметил Панасюк, — у нас отношения с местными сербами прекрасные.
 — К счастью для вас, да. А вот из других районов люди побежали в Белград, спасая семьи. Коммунистические партизаны, которых возглавляет Тито, уже убили около трехсот русских, включая женщин и детей… Так вот, начальник Бюро по делам русских эмигрантов в Сербии генерал Михаил Федорович Скородумов обратился к министру Льотичу, создателю сербского антикоммунистического корпуса, с просьбой дать русским оружие для самообороны. Но Льотич ответил, что, к сожалению, ничего дать не может: ему самому немцы оружия выдали меньше, чем необходимо. Тогда Скородумов обратился к начальнику штаба немецкого главнокомандующего на Юго-Востоке полковнику Кевишу….
— К счастью для вас, да. А вот из других районов люди побежали в Белград, спасая семьи. Коммунистические партизаны, которых возглавляет Тито, уже убили около трехсот русских, включая женщин и детей… Так вот, начальник Бюро по делам русских эмигрантов в Сербии генерал Михаил Федорович Скородумов обратился к министру Льотичу, создателю сербского антикоммунистического корпуса, с просьбой дать русским оружие для самообороны. Но Льотич ответил, что, к сожалению, ничего дать не может: ему самому немцы оружия выдали меньше, чем необходимо. Тогда Скородумов обратился к начальнику штаба немецкого главнокомандующего на Юго-Востоке полковнику Кевишу….
Официант принес вино. Штейфон сказал ему «Хвала», пригубил «Крстач» и продолжил:
— Полковник, от имени главнокомандующего, предложил Скородумову немедленно отдать приказ всем способным носить оружие русским эмигрантам вступать в немецкие полки в местах их расположения. На это Скородумов ответил, что такой приказ отдать не может, так как белые, как политические эмигранты, могут воевать только против большевиков, а вступая в немецкие полки, которые могут быть переброшены на другие фронты, русские эмигранты будут вынуждены воевать и против некоммунистических государств, что для белых абсолютно невозможно. И добавил, что может отдать приказ лишь о формировании отдельного русского корпуса для борьбы на Восточном фронте и вполне естественно, что за время формирования этот корпус примет участие в борьбе с сербскими коммунистами. Началась торговля, и наконец полковник Кевиш заявил, что главнокомандующий разрешил формирование Отдельного Русского корпуса и дал обещание после ликвидации коммунизма в Сербии перебросить этот корпус на Восточиый фронт.
Штейфон снова сделал паузу, словно надеялся, что Панасюк задаст ему какой-то вопрос, но собеседник молчал, и генерал продолжил:
— В общем, 12 сентября генерал Скородумов объявил о создании корпуса. Но он допустил крупную ошибку – в приказе заявил буквально следующее: «С Божьей помощью, при общем единодушии и выполнив наш долг в отношению приютившей нас страны, я приведу вас в Россию». Через два дня немцы арестовали Скородумова за это заявление. Сейчас Михаил Федорович находится в тюрьме. А командиром корпуса со вчерашнего дня назначен ваш покорный слуга.
Штейфон рассказывал все это с непроницаемым лицом, и Панасюк так и не понял, как оценивает генерал высказывание Скородумова и его арест.
— Кто же теперь возглавит Бюро по защите интересов русской эмиграции? – взволнованно спросил Панасюк.
— Думаю, что генерал-майор Владимир Владимирович Крейтер. Кстати, он суворовец 1907 года выпуска…
«Неплохая кандидатура, — подумал Панасюк. – Крейтер относительно молод, боевой кавалерийский генерал, и пользуется большим авторитетом во всех эмигрантских кругах».
— А учебный отдел в Бюро кому отдадут?
— Пока рассматривается кандидатура генерал-майора Александра Николаевича Шуберского. Тоже кадет, выпускник Пажеского корпуса…
— Шуберский? – удивился Панасюк. – Не тот ли, который на Нарочи весной 16-й командовал 85-м пехотным Выборгским? Этот полк занимал тогда соседнюю с нашим позицию…
— Он самый… Но вернемся к Русскому корпусу. Довольствие – по нормам германской армии. Форма – югославская с русскими погонами и белым ополченским крестом на головных уборах. Отклик очень большой: в первый же день сформирован взвод, во второй – рота, в третий – батальон… Сейчас практически готов 1-й полк трехбатальонного состава. Добровольцы стекаются со всей Югославии, в будущем ожидаем поток желающих из других балканских стран…
— Догадываюсь, для чего вы мне это рассказываете, — медленно произнес Панасюк.
Штейфон снова пригубил вино, кивнул.
— Я не призываю вас немедленно вступать в корпус – вы выполняете крайне важную функцию, готовите нашу смену… Но кадетам, когда вы сделаете очередной набор в корпус, расскажите о нем подробно. Ситуация такова, что русские в Сербии должны стоять за себя. Немцы все время говорят по радио и в газетах, что воюют в России не с русскими, а с большевиками. Но я лично этому не верю, — понизил голос генерал. – Если они не изменят захватнической политики в России, то войну проиграют и большевики рано или поздно придут сюда. А значит, нам так или иначе надо будет защищаться… И ваши мальчики в будущем станут костяком Русского корпуса. Теми, кто встанет на пути у большевиков, когда они понесут свою заразу в Европу.
Штейфон оглянулся по сторонам, будто ожидал увидеть там бойцов Красной Армии, и тяжело вздохнул.
 Панасюк молчал, обдумывая услышанное от Штейфона. Он знал, что в оккупированной Югославии почти сразу же развернулось мощное партизанское движение, причем двух видов. Одни партизаны, называвшие себя четниками, подчинялись бывшему полковнику югославской армии Драголюбу (Драже) Михаиловичу и воевали за восстановление в стране королевской власти. Другие, подчинявшиеся местному главе коммунистов Иосипу Тито, сражались за то, чтобы после освобождения от нацистов Югославия стала бы советской. При этом и четники, и титовцы ненавидели хорватских фашистов – усташей и немцев, но о совместных действиях договориться пока не могли. Что же касается живших в Югославии «белых» русских, то четники их не трогали, а титовцы сразу же начали преследовать. Многие «белые» русские вынуждены были взяться за оружие, чтобы спасти себя и свои семьи от партизанского террора. А теперь, выходит, для защиты от партизан разрешили сформировать целый корпус…
Панасюк молчал, обдумывая услышанное от Штейфона. Он знал, что в оккупированной Югославии почти сразу же развернулось мощное партизанское движение, причем двух видов. Одни партизаны, называвшие себя четниками, подчинялись бывшему полковнику югославской армии Драголюбу (Драже) Михаиловичу и воевали за восстановление в стране королевской власти. Другие, подчинявшиеся местному главе коммунистов Иосипу Тито, сражались за то, чтобы после освобождения от нацистов Югославия стала бы советской. При этом и четники, и титовцы ненавидели хорватских фашистов – усташей и немцев, но о совместных действиях договориться пока не могли. Что же касается живших в Югославии «белых» русских, то четники их не трогали, а титовцы сразу же начали преследовать. Многие «белые» русские вынуждены были взяться за оружие, чтобы спасти себя и свои семьи от партизанского террора. А теперь, выходит, для защиты от партизан разрешили сформировать целый корпус…
Но сама идея создания этого корпуса показалась Панасюку по меньшей мере странной. «Ведь понятно, что всё это будет создано на германские деньги… Ну хорошо, пусть сейчас немцы разрешат использовать корпус только здесь, для борьбы с партизанами Тито, но где гарантии, что дальше его не бросят на какой угодно фронт? И самое главное – как могут русские офицеры служить, подчиняясь верховной воле Гитлера? Они подписывают договор с дьяволом, надеясь его перехитрить, но ведь все знают, чем заканчиваются такие договоры…»
Штейфон смотрел на Панасюка цепко и требовательно, словно заранее предъявляя свои права на тех мальчишек, которые еще даже не поступили в корпус. «И ведь с формальной стороны даже не возразишь, — грустно подумал Иван Павлович. – Для чего мы растим кадет? Для борьбы с большевизмом, неважно, русским или югославским. А тут вот она – самая что ни на есть конкретная, чёткая, кровавая борьба…»
— Благодарю вас за информацию, Ваше Превосходительство, — сдержанно произнес Панасюк. – Теперь я буду знать о том, что Русский корпус создан.
— И о том, что командование Русского корпуса возлагает особые надежды на ваших кадет, — жестко договорил Штейфон. – Еще раз напомню: это наше будущее, наша надежда. Если мы упустим этих мальчиков сегодня, мы упустим будущее эмиграции… Честь имею, господин капитан!
…В Белу Цркву Панасюк вернулся уже под вечер. На подъезде к городу попал под сильный холодный дождь, по-прежнему дула пронизывающая насквозь кошава. Хозяина не было дома. Стана сидела на кухне у керосиновой лампы, проверяла тетради учеников.
— Добро вече, — произнес Иван Павлович и положил перед девушкой на стол аккуратно завернутые в бумажный пакетик перья. – Вот перья, которые ты заказывала. Самые лучшие, какие нашел в Белграде.
Стана подняла на Панасюка глаза, скупо улыбнулась. Она вообще редко улыбалась после того, что пережила в Глине, и каждая ее улыбка была еле заметной и чуть грустной.
— Хвала… — Она вынула из пакетика одно перо, вставила в ручку, обмакнула в чернильницу и попробовала. – Ой, как хорошо! А то мои перья уже всё… стали плохие. Так правильно по-русски?
— Правильно, — улыбнулся Панасюк. – Ну, не буду мешать тебе работать.
— Вы совсем не мешаете.
Стана произнесла самую простую фразу, но Ивану Павловичу почему-то показалось, что прозвучала она совсем по-особенному. Поймать взгляд Станы не удалось – она быстро отвела глаза и снова склонилась над тетрадями.
Сергей Варламов, 16-19 октября 1941 г., Москва
…Тревогу объявили десять минут назад, после получасовой стрельбы. Сергей, облаченный в полное одеяние бойца комсомольско-молодежной роты – каску, негнущуюся брезентовую робу, с противогазом на боку, с железными клещами в асбестовых рукавицах, — сидел на чердаке соседнего со своим дома – огромного семиэтажного красавца постройки 1914 года, о котором старые жильцы продолжали говорить «бывший графа Баранова». Прозрачное осеннее вечернее небо, звезды, и среди этих звезд вроде бесцельно бродят неяркие лучи прожекторов. Когда-то давным-давно, в прошлой жизни, Сергей любил звездные ночи – глядя в небо, можно было мечтать о будущих подвигах, межпланетных путешествиях и разных других вещах. Но теперь он давно не радовался хорошей погоде по ночам. Это значило, что почти наверняка прилетят ОНИ.
Впрочем, сегодня Сергей не думал о вражеских бомбардировщиках. В Москве творились события куда более грозные, чем вражеский налет. Началось все 9 октября, когда в сводке Совинформбюро впервые сообщили о том, что наши войска оставили конкретный город – Орёл. 12 октября сообщили, что был оставлен Брянск, а вечером 13-го – Вязьма. «Гитлеровские орды угрожают жизненным центрам страны», — написала в тот день «Правда». А 15-го москвичи прочли в газетах еще более страшные слова: «Кровавые орды фашистов рвутся к жизненным центрам нашей Родины, рвутся к Москве». Это было уже по-настоящему жутко. До этого момента война для многих сводилась к авианалетам, бытовым неудобствам, введенным 17 июля карточкам на продукты, затемнению… Теперь же было понятно, что фашисты идут прямо на Москву, и на пути у них не стоят ни мощные крепости, ни высокие горы. Вязьма – всего-то в двухстах пятидесяти километрах. Кто скажет, когда немцы подойдут еще ближе?..
А сегодня, 16 октября, и вовсе началось что-то странное. На Арбатской площади, у здания Наркомата обороны, сгрудились десятки грузовых и легковых машин, в которые красноармейцы грузили вещи и усаживали женщин и детей. Остановились заводы и фабрики – рабочим выдали зарплату за месяц вперед и по пуду муки сверх нормы и распустили по домам. Застыли на рельсах трамваи, перестало действовать метро, закрылись булочные, поликлиники и аптеки, в продовольственных перед закрытием начали раздавать прохожим продукты… Посреди утреннего сообщения Совинформбюро по радио вдруг ни с того ни с сего заиграл фрагмент немецкого марша «Хорст Вессель». Никаких объяснений никто не давал. Люди жили слухами: правительство эвакуируется в Куйбышев, заводы, вокзалы, мосты, электростанции и метро минируют и будут взрывать (причем взрывчатку привезли заранее, еще 10-го), из Мавзолея вывезли тело Ленина, немцы уже находятся в пригородах и рассматривают Кремль в бинокли… И самое главное – собирается уезжать в тыл Сталин. И тогда в городе началась паника.
Накануне, поздно вечером, в квартире Варламовых раздался телефонный звонок. Сергей как раз был дома, дрых без задних ног в промежутке между разгрузкой дров и дежурством на крыше. Но когда в трубке послышался голос Лены Потапенко, сон мгновенно слетел с него.
— Лена? Привет, что-то случилось?
— Да. – Ее голос был померкшим. – Папин наркомат завтра эвакуируют, и семьи ответработников тоже…
Сергей рывком сел на кровати.
— Не может быть!
— Папа сказал, что положение на фронте очень серьезное, немцы могут войти в Москву.
В другое время Сергей подумал бы, что от ответственного работника странно слышать такие паникёрские разговоры – в последней сводке говорилось лишь, что на Западном направлении ситуация серьезно осложнилась и образовался прорыв. Но теперь он думал только о том, что завтра Лена уедет в эвакуацию и когда они увидятся в следующий раз – неизвестно…
— Когда вы уезжаете? – помолчав, спросил он.
— В десять утра за нами придет машина. Уезжаем вроде бы с Казанского. Но я не знаю, даст ли нам мама толком попрощаться…
— Без десяти десять я буду у твоего подъезда.
 …И вот сегодня без десяти десять утра Сергей уже слонялся возле подъезда громадного дома Наркомтяжпрома на Большой Колхозной. По пути туда он отчетливо понял: в городе творится что-то неладное. Улицы были забиты грузовиками, в кузовах которых горами громоздился разный мещанский хлам: зеркала, полированная мебель, узлы, чемоданы. Рядом с грузовиками двигались другие машины: огромные американские «Линкольны» и «Паккарды» с флажками иностранных государств на крыльях, пожарные линейки, автобусы, «Скорые помощи», фургоны с надписями «Хлеб» и «Московские котлеты»… Хмуро, молча шагали куда-то истребительные батальоны и длинные колонны бойцов дно (так сокращенно называли дивизии народного ополчения) – щетинистые дядьки под шестьдесят, прошедшие империалистическую, а может, даже еще и русско-японскую. И еще как-то по-особенному, странно пахло. Сначала Варламов не мог понять, что это за запах, а потом понял: горелая бумага. На Кузнецком Мосту в воздухе словно кружился черный снег – это был пепел от сожженных документов. Летали и отдельные бумажные листы. Один из них, подхваченный холодным ветром, прилег Сергею прямо на плечо. Варламов машинально взял его в руки: это была сильно обугленная по краям почетная грамота с профилями Ленина и Сталина на имя председателя Мосгорпромсовета Управления промысловой кооперации при СНК РСФСР Пасечникова Федора Сергеевича…
…И вот сегодня без десяти десять утра Сергей уже слонялся возле подъезда громадного дома Наркомтяжпрома на Большой Колхозной. По пути туда он отчетливо понял: в городе творится что-то неладное. Улицы были забиты грузовиками, в кузовах которых горами громоздился разный мещанский хлам: зеркала, полированная мебель, узлы, чемоданы. Рядом с грузовиками двигались другие машины: огромные американские «Линкольны» и «Паккарды» с флажками иностранных государств на крыльях, пожарные линейки, автобусы, «Скорые помощи», фургоны с надписями «Хлеб» и «Московские котлеты»… Хмуро, молча шагали куда-то истребительные батальоны и длинные колонны бойцов дно (так сокращенно называли дивизии народного ополчения) – щетинистые дядьки под шестьдесят, прошедшие империалистическую, а может, даже еще и русско-японскую. И еще как-то по-особенному, странно пахло. Сначала Варламов не мог понять, что это за запах, а потом понял: горелая бумага. На Кузнецком Мосту в воздухе словно кружился черный снег – это был пепел от сожженных документов. Летали и отдельные бумажные листы. Один из них, подхваченный холодным ветром, прилег Сергею прямо на плечо. Варламов машинально взял его в руки: это была сильно обугленная по краям почетная грамота с профилями Ленина и Сталина на имя председателя Мосгорпромсовета Управления промысловой кооперации при СНК РСФСР Пасечникова Федора Сергеевича…
Какая-то женщина в беретике и мужском драповом пальто, с узлом на плече, озлобленно толкнула Сергея в плечо:
— Чего встал на дороге? Ждешь, когда танки придут?
— Какие танки? – машинально спросил Сергей.
— Во даёт! – оскалив гнилые зубы, засмеялась женщина. – Да немецкие танки на Речном вокзале прорвались, к улице Горького прут!
Сергей хотел задержать паникёршу, но женщину уже подхватило людским потоком, стремившимся по Сретенке к Садовому кольцу…
Все подходы к дому Наркомтяжпрома были запружены грузовиками. Полуторки, трехтонки и пятитонки стояли рядами, как на автомобильной выставке. Какие-то машины уже были под завязку забиты барахлом, какие-то еще грузились. Проходя мимо нервно куривших шоферов, Сергей расслышал обрывок разговора
— …по Рязанскому или Егорьевскому надо, остальные уже или перерезали, или обстреливают.
— Слышь, а на Калужской народ совсем озверел. На моих глазах ЗИС-101 с каким-то толстым остановили. Ему самому по шее, жену выкинули, чемоданы растащили…
— А в бабских-то парикмахерских видал какие очереди? Немцы идут – надо прически делать…
Во внутреннем дворе огромного дома было пусто. Только асфальт был устлан слоем бумаг и книг, явно выброшенных из окон. Приглядевшись, Сергей с ужасом понял, что это издания Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина. И вот это – книги вождей, валяющиеся на грязном октябрьском асфальте, — поразило его больше всего другого.
Шло время, а Потапенко так и не появлялись из подъезда. В десять минут одиннадцатого встревоженный Сергей заглянул в подъезд в надежде найти там консьержа и узнать что-нибудь. Но на месте охранника никого не было. Только какая-то полная дама в сободях, чем-то неуловимо похожая на маму Лены, торопливо бежала вниз по лестнице, прижимая к себе лакированную сумочку.
— Простите, вы не знаете, семья Потапенко скоро выйдет? – спросил у нее Варламов.
Дама округлила глаза:
— Смеетесь, юноша? Да Потапенки еще полчаса назад на вокзал уехали.
Видимо, на лице Сергея отразилось такое отчаяние, что дама неожиданно предложила:
— Вы не расстраивайтесь, я в одном эшелоне с ними еду. Хотите, подвезу вас на вокзал. Муж уже там, а я облигации в сумочке забыла, дура… А вы знаете, что немецкий танк до Сходненской доехал?
— С чего вы взяли?
— Ну как – люди говорят. Из него еще немец высунулся, посмотрел в бинокль, в блокнот записал что-то и уехал обратно. А тридцать мотоциклистов в километре от Сокола ехали по Ленинградке… — Дама прижала сумочку с облигациями к груди, словно защищая ее от немецких мотоциклистов, и продолжила: — А еще они из Химок звонили и просили Сталина к телефону! Так сегодня утром линии из Подмосковья поотключали уже…
— Паникёрские слухи, — машинально сказал Сергей, но дама только рассмеялась:
— Молодой человек, когда из Москвы эвакуируют наркоматы и посольства, это не паникёрские слухи, а реальность. Просто не все могут его осознать. Ну, потом поздно будет…
 …Машина, в которой ехала дама, оказалась ярославской пятитонкой, кузов которой был завален узлами и чемоданами. Сергей притулился на каком-то мягком узле. Грузовик вывернул со Сретенки на Садово-Спасскую и вписался в плотный шестирядный поток машин и повозок, кативший на восток, к Курскому и Казанскому вокзалам. В воздухе продолжала кружиться мелкая пепельная крошка от сожженных бумаг, припорашивашая черным головы, воротники и спины. Мимо тянулись заклеенные против бомбежек окна, забитые досками витрины магазинов, стальные «ежи» — сваренные крест-накрест рельсы. Слитно гудели моторы, перекрывавшие топот сотен ног шедших по тротуарам людей. Все они тоже были навьючены вещами. И самое страшное – не было видно никого, кто собирался бы останавливать это повальное бегство, гибельное движение, прекращать панику!..
…Машина, в которой ехала дама, оказалась ярославской пятитонкой, кузов которой был завален узлами и чемоданами. Сергей притулился на каком-то мягком узле. Грузовик вывернул со Сретенки на Садово-Спасскую и вписался в плотный шестирядный поток машин и повозок, кативший на восток, к Курскому и Казанскому вокзалам. В воздухе продолжала кружиться мелкая пепельная крошка от сожженных бумаг, припорашивашая черным головы, воротники и спины. Мимо тянулись заклеенные против бомбежек окна, забитые досками витрины магазинов, стальные «ежи» — сваренные крест-накрест рельсы. Слитно гудели моторы, перекрывавшие топот сотен ног шедших по тротуарам людей. Все они тоже были навьючены вещами. И самое страшное – не было видно никого, кто собирался бы останавливать это повальное бегство, гибельное движение, прекращать панику!..
По забитой машинами Домниковской с трудом выбрались на Комсомольскую площадь. Казанский вокзал напомнил Сергею виденные в кино сцены из времен Гражданской войны – толпы испуганных людей, детский плач, громоздящиеся на полу вещи, разъяренные очереди у закрытых касс. На первом пути стоял смешанный пассажирско-грузовой эшелон, который осаждали хорошо одетые люди. Дорогу на перрон преграждала цепочка немолодых милиционеров в синих шинелях.
— Пропуск на посадку, — равнодушно сказал один из них, с четырьмя треугольничками в синих петлицах, в ответ на просьбу Сергея пропустить его на перрон.
— Мне девушку проводить надо… Она в эвакуацию уезжает с родителями… Невесту, — неожиданно для себя сказал Варламов и густо покраснел. – Пропустите к невесте, товарищ старшина!
Грубое лицо милиционера неожиданно смягчилось.
— К невесте, говоришь? Ну ладно, только быстро.
— Спасибо!
Как отыскать Лену в этом месиве взволнованных, нервничающих, плачущих людей, осаждавших пассажирские и грузовые вагоны, Варламов не знал. Поэтому просто побежал вдоль эшелона, крича «Лена! Лена!» Выглядело, наверное, глупо, но он не думал об этом. Главное было – найти ее…
— Сережа!..
Он суматошно заозирался. Лена звала его откуда-то с площадки вагона, из-за спин людей, поспешно забиравшихся внутрь. Подпрыгнув, Варламов увидел ее лицо. Она тоже поднималась на цыпочки, чтобы разглядеть Сергея.
— Машина раньше пришла, а нам уже телефон отключили! Я не могла тебя предупредить!
— Куда вы? – крикнул Сергей первое, что пришло в голову.
— В Куйбышев!
— А надолго?
— Не знаю, никто ничего не говорит!
В вагонном окне показалось разгневанное лицо матери Лены. Она что-то говорила, обращаясь к Сергею и бурно жестикулируя, но слышно ничего не было.
Где-то впереди заревел паровоз. Толпа пассажиров ахнула, бросилась вперед с утроенной энергией. Лену толкали, отпихивали вглубь тамбура, но она не сдавалась.
— Когда мы увидимся? – крикнула она Сергею.
— Давай как у Гашека! Помнишь, как Швейк с Водичкой договаривались?
Лицо Лены осветила слабая улыбка.
— Помню, конечно! В шесть часов вечера после войны…
— Вот и мы давай так же! В первый же мирный день! У средней колонны Большого театра, хорошо?
— Хорошо…
Последних пассажиров в вагон проводники запихивали уже на ходу. Состав тронулся и, медленно наращивая скорость, покатил вдоль перрона. Лена исчезла, но в следующий миг она появилась уже в переполненном вагонном коридоре и махала Сергею через стекло, не обращая внимания на то, что рядом стояла разгневанная мать…
 …Откуда-то из Замоскворечья, с Якиманки или Полянки, донесся тяжелый удар фугаски. «Килограммов на сто, — машинально подумал Сергей. – А Лена сейчас, наверное, сидит в купе и смотрит в окно или читает… И поезд уже ушел от Москвы далеко на восток… Через что лежит путь на Куйбышев?.. Почему это я вспомнил Гашека?.. И когда же это будет – шесть часов вечера после войны?..»
…Откуда-то из Замоскворечья, с Якиманки или Полянки, донесся тяжелый удар фугаски. «Килограммов на сто, — машинально подумал Сергей. – А Лена сейчас, наверное, сидит в купе и смотрит в окно или читает… И поезд уже ушел от Москвы далеко на восток… Через что лежит путь на Куйбышев?.. Почему это я вспомнил Гашека?.. И когда же это будет – шесть часов вечера после войны?..»
…Со старшей сестрой военного госпиталя Елизаветой Петровной Варламовой случилось нечто странное — она задремала на рабочем месте. Сложно было представить, что это могла себе позволить она, в высшей степени ответственный работник. И так же невозможно было представить себе, что кто-то в такой день и час может позволить себе сон на рабочем месте. Но нянечка, обнаружившая Елизавету Петровну спящей, вместо того, чтобы ее будить, на цыпочках ушла прочь. Так же поступили сестры из хирургии и терапевтического и те раненые, которые подходили к посту. А потом и главврач. Посмотрев на Елизавету Петровну, он молча приложил палец к губам и отошел. Персонал госпиталя берег сон Варламовой, потому что знал – она отдает своей работе все силы и даже больше…
А Елизавете Петровне, самой не заметившей, как провалилась в забытье, уронив голову на кипу разъехавшихся в сторону анамнезов, снилось почему-то то, о чем она давным-давно не вспоминала: полет. У нее было две руки, и она сама управляла аэропланом, это был легкий, послушный «Моран-Парасоль», ветер упруго бил в лицо, внизу расстилался Гатчинский аэродром. А потом она поняла, что она уже не одна в небе – рядом, выше и ниже летели другие самолеты, куда более современные, чем ее «Моран». Это были мощные двухмоторные самолеты с большими крестами на крыльях и свастиками на килях. Они шли строем, надрывно гудя и не обращая внимания ни на что. А внизу уже вырисовывались контуры Москвы, какой она изображена на картах…
И тогда Елизавета Петровна вскрикнула во сне, потому что знала: там, внизу, на крыше – ее сын Сережа, совсем еще мальчик, и этот мальчик один защищает Москву от чужих самолетов с крестами на крыльях… А они целят именно в него, именно в дом на Остоженке, «дом под рюмкой», известный всей Москве.
Вниз полетели тяжелые бомбы. Прямо в ее сына…
…Варламова очнулась от сна так же внезапно, как ушла в забытье. Быстро провела рукой по лицу, сгоняя отстатки дремоты, огляделась – не видел ли кто?
Но вокруг кипела обычная госпитальная жизнь. Удивительно, но никто не заметил, как она задремала.
…Где-то рядом, у места строительства Дворца Советов, отрывисто, часто били зенитки. Сергей уже давно различал их по звуку – кашляющий лай 85-миллиметровых резко отличался от торопливого задыхающегося чваканья автоматических 37-миллиметровых (болтали, что их делают по лицензии шведской фирмы «Бофорс»). На фоне вечернего неба было отчетливо видно, в каких именно частях Москвы разгораются пожары. В слюдяных лучах прожекторов иногда вспыхивали серебристые бока и тросы покачивающихся в воздухе аэростатов заграждения, не дававших самолетам идти на малых высотах.
— И куда они бьют, мазилы? – раздосадованно сказал рядом с Сергеем Женя Лопухин. — Чем их в артучилищах учат?
«Он не знает, что Лена уехала… А я – знаю. Сказать Женьке? Или не говорить?.. Расстроится ведь. Он до сих пор ее любит, хоть и смирился с тем, что она выбрала меня…»
— Зажали… Зажали, смотри!
От волнения Женька вцепился ему в плечо. А в центре гигантского икса, образованного в небе двумя скрестившимися лучами прожекторов, появился крохотный серебристый крестик.
Чаще, злее заработали зенитки. К тем, что у Дворца Советов, присоединились батареи по охране Наркомата обороны, кремлёвские, замоскворецкие, из парка Горького. В сиплый лай пушек вплелось отрывистое тявканье зенитных пулеметов — счетверенных «Максимов» и крупнокалиберных ДШК. Желтые и красные трассирующие пунктиры уходили в черное небо, казалось, прямо к зажатому в тиски прожекторов серебристому крестику. По крыше напропалую барабанили осколки зенитных снарядов. В соседнем взводе таким осколком в начале сентября убило Машу Холстинину, тихую толстую девчонку, мечтавшую поступать в театральный.
 — Кто это? – крикнул на ухо Сергею Женя. – «Хейнкель»?
— Кто это? – крикнул на ухо Сергею Женя. – «Хейнкель»?
— «Дорнье», видишь, хвост двойной!
К серебристому крестику быстро приближались еще два – один побольше, двухмоторный, второй одномоторный. Вражеский самолет явно пытался уйти от боя, но прожектора вцепились в него, как гончие псы. Зенитчики сместили огонь в другой сектор, чтобы не задеть наши истребители. Прошла минута, другая, и все крыши Метростроевской огласились радостными криками и аплодисментами – серебристый крестик покачнулся и стремительно заскользил куда-то вниз, оставляя за собой черный дымный след, а два других, словно празднуя победу, заложили в небе крутые виражи.
— Сбили гада! – в восторге проорал командир взвода Васька Кандауров, просовывая голову в чердачное окно. – Ур-а-а!
— Да мы видели! Ура-а-а!..
— «Пешка» работала, «Пе-3»! Новая совсем!.. Ура-а-а!..
— Ага, а в паре с ней «МиГ-3» был! Ура-а-а!..
 …Но налет еще не был закончен. На Москву обычно шло несколько «волн» вражеских бомбардировщиков, и сейчас как раз была пауза. Пользуясь моментом, бойцы комсомольско-пожарной роты проверяли крышу и чердаки на предмет повреждений. Под ногами ребят гремела старая жесть, хрупало битое стекло. Внизу темным морем расстилалась Москва, и лишь гигантские костры в местах попаданий отмечали места, где сейчас рыдали над убитыми люди, суетились усталые пожарные… По Метростроевской, отчаянно сигналя, чтобы не задавить кого в темноте, неслась с погашенными фарами «Скорая помощь» — белый легковой ЗИС-101.
…Но налет еще не был закончен. На Москву обычно шло несколько «волн» вражеских бомбардировщиков, и сейчас как раз была пауза. Пользуясь моментом, бойцы комсомольско-пожарной роты проверяли крышу и чердаки на предмет повреждений. Под ногами ребят гремела старая жесть, хрупало битое стекло. Внизу темным морем расстилалась Москва, и лишь гигантские костры в местах попаданий отмечали места, где сейчас рыдали над убитыми люди, суетились усталые пожарные… По Метростроевской, отчаянно сигналя, чтобы не задавить кого в темноте, неслась с погашенными фарами «Скорая помощь» — белый легковой ЗИС-101.
— Варламов! – окликнул Сергея Кандауров. – На третьем этаже одинокому старику плохо, вон «Скорая» подъезжает. Поможешь снести в машину и бегом назад!
— Есть!..
…Смутная тревога, поселившаяся в душе Елизаветы Петровны после странного сна, не оставляла ее до конца смены. Она уже знала, к чему это. Вещие сны Елизавета Петровна начала видеть вскоре после Гражданской, и они никогда еще не обманывали ее. Плохое ей снилось, например, за день до того как Сережка чуть не утонул, купаясь в Клязьме, — было ему тогда девять лет. Плохое снилось и накануне отъезда мужа в ту самую проклятую командировку накануне войны – будто пошли в лес за грибами и потерялись там… Но с тех пор никого из родных Елизавета Петровна во сне не видела, и это ее, как ни странно, успокаивало – значит, муж жив. Никогда не видела она и плохих снов, связанных с сыном. А вот сегодня – увидела. И страх, охвативший ее, все меньше и меньше казался ей иррациональным. Елизавета Петровна позвонила домой, но к телефону никто не подошел. Значит, налёт, и сын дежурит на крыше. Как и в ее сне…
К счастью, смена заканчивалась через час, и, сдав пост, Варламова сразу же поспешила домой. Не обращая внимания на то, что была объявлена воздушная тревога и где-то на окраинах лупили зенитки, она выбежала из госпиталя, успела на последний поезд метро, который уходил в половине восьмого, и вышла на станции «Дворец Советов» без трех минут девять, когда на перроне начинали устанавливать нары для тех, кто ночует в метро. Навстречу по ступеням уже валила толпа жителей окрестных домов, среди которых было уже много знакомых лиц.
Пожилая тетечка, дежурившая на выходе, загородила ей дорогу:
— Вы куда, гражданка? Налёт же!
— Мне нужно домой, у меня там маленький сын! – на ходу ответила Елизавета Петровна, и тетечка молча открыла перед ней дверь…
 В небе над Гоголевским бульваром, над строительством Дворца Советов и левее, над Кремлем, чертили свои непонятные геометрические фигуры прожектора. С крыш тянулись к небу строчки трассирующих пуль. А наверху нарастал равнодушный, булькающий прерывистый гул – верный признак того, что на город надвигается вторая волна бомбардировщиков.
В небе над Гоголевским бульваром, над строительством Дворца Советов и левее, над Кремлем, чертили свои непонятные геометрические фигуры прожектора. С крыш тянулись к небу строчки трассирующих пуль. А наверху нарастал равнодушный, булькающий прерывистый гул – верный признак того, что на город надвигается вторая волна бомбардировщиков.
Перебежав угол на скрещении Кропоткинской и Метростроевской, Елизавета Петровна, задыхаясь, бросилась к своему дому. Ее словно подгоняла какая-то непонятная сила. Добежав до самого верха лестницы, она рванула на себя чердачную дверь и лицом к лицу столкнулась с двухметровым рыжим детиной в брезентовой робе – 17-летним Ильей Завьяловым, сыном дворничихи.
— Лизавета Петровна? – изумился Илья. – А вы чего не в убежище? Налёт же!
— Где Сергей? – вместо ответа с трудом проговорила Варламова.
— Серега? А на соседней крыше. Там вчера один парень траванулся чем-то, в больницу повезли, а второй спину надорвал на разгрузке вагонов, вот они с Лопухиным и подменяют… Осторожно, щас они вроде как на наш район поперли! – крикнул Завьялов уже вслед.
Но Елизавета Петровна уже не слышала – она торопливо бежала вниз по лестнице.
До войны подъезды в «приличных» московских домах запирались, в них сидели консьержи, которым надо было докладывать – куда и по какому вопросу ты идешь. Теперь же эти правила были забыты: двери и парадных, и черных ходов для удобства пожарных и служб ПВО стояли нараспашку. Перебежав темный коридор переулка, где пережидала налет одинокая «Скорая помощь» — ЗИС-101, Елизавета Петровна начала подниматься на верхний этаж огромного жилого дома, который поднялся по соседству уже во время первой Великой войны. Дважды ее обогнали ребята в касках, асбестовых рукавицах и брезентовых робах, которые, матерясь, тащили вверх тяжеленные брандспойты. И чем выше, тем отчетливее становился едкий запах гари…
 Дверь на крышу была распахнута. Горел чердак – очевидно, в него угодила «зажигалка». Одна такая бомба была забросана толстым слоем песка, хвост другой виднелся из бочки с водой. На крыше одновременно работали сразу несколько пожарных расчетов. Под ногами сыто булькали и пульсировали набухшие тела пожарных гидрантов. Вокруг слышалось злое, резкое:
Дверь на крышу была распахнута. Горел чердак – очевидно, в него угодила «зажигалка». Одна такая бомба была забросана толстым слоем песка, хвост другой виднелся из бочки с водой. На крыше одновременно работали сразу несколько пожарных расчетов. Под ногами сыто булькали и пульсировали набухшие тела пожарных гидрантов. Вокруг слышалось злое, резкое:
— Хрена ты на термитную бомбу воду льешь?! Ее песком надо!
— Ведра давай!..
— Быстрее, быстрее! Сейчас еще пойдут!..
Елизавета Петровна оглядывалась в поисках сына. Но его нигде не было. Только грубые брезентовые спины, каски, суета, крики…
— Сережа! – окликнула она, но ее никто не услышал.
Тревога, поднявшаяся в ней еще во сне, стремительно росла. Оглянувшись по сторонам, она увидела лежавшего в сторонке человека, накрытого шинелью, и побежала к нему.
— Сережа?..
Сдвинув шинель с лица человека, она увидела бледную веснушчатую физиономию Васи Кандаурова. Вася очень внимательно смотрел в небо, словно боялся пропустить вражеский самолет и после своей гибели…
— Лизавета Петровна, вы чего тут? – Варламову потормошил за плечо Женя Лопухин. – Давайте в убежище, опасно же!
— Где Сережа?
— Побежал больного с третьего этажа в «Скорую» спустить, сейчас будет! Бегите отсюда, налет ведь!..
— Лопухин! – рявкнули откуда-то. – Багор давай, мать твою!.. Идут, идут, сволочи…
Елизавета Петровна подняла голову. Где-то очень высоко над Москвой, в октябрьском небе, пульсировало что-то страшное, натужное, несущее гибель. Навстречу ему рвались сотни, тысячи зенитных снарядов и пуль, но они не могли остановить и предотвратить неизбежное…
 От чудовищного удара, раздавшегося совсем рядом, через несколько домов, казалось, содрогнулась вся Москва. Багровый столб взрыва вырвал из тьмы четкие, яркие, словно на картине написанные подробности пейзажа – вывороченные с корнем деревья, горящий остов пикапа рядом, просевшую низко крышу какого-то хозяйственного строения… И кони, кони! Почему-то много-много коней, словно дело было не в центре Москвы, а за городом. В дерганом свете пламени кони казались красными, словно на знаменитой картине Петрова-Водкина, которую Елизавета Петровна видела в 1912 году на выставке «Мира искусства»…
От чудовищного удара, раздавшегося совсем рядом, через несколько домов, казалось, содрогнулась вся Москва. Багровый столб взрыва вырвал из тьмы четкие, яркие, словно на картине написанные подробности пейзажа – вывороченные с корнем деревья, горящий остов пикапа рядом, просевшую низко крышу какого-то хозяйственного строения… И кони, кони! Почему-то много-много коней, словно дело было не в центре Москвы, а за городом. В дерганом свете пламени кони казались красными, словно на знаменитой картине Петрова-Водкина, которую Елизавета Петровна видела в 1912 году на выставке «Мира искусства»…
— В конюшню, в конюшню попало! – орал кто-то рядом с ней. – В конный парк Дворца Советов!
— «Ударница» тоже горит, мать его!..
Гул самолетов стлался уже над самыми головами, казалось, что волна бомбардировщиков катится через крыши неуязвимо и спокойно, как на воздушном параде. Чвакали оголтело зенитки, мельтешили прожектора, но бомбы снова и снова падали на город, пронзая жесть и деревянные перекрытия, круша то, что было построено совсем недавно и десятки лет назад, калеча, круша отнимая будущее, словно добивая Москву, оглушенную днем 16 октября, днем паники, слухов, безвестности и безысходности…
Елизавета Петровна направилась к выходу с крыши, успокоенная тем, что с Сережкой все в порядке и, кажется, ее сон впервые за все эти годы подвел ее.
— Наша!!! – отчаянно крикнул кто-то под ухом у нее. И тут же старая крыша сдвинулась под ногами от чудовищного удара…
Упругая волна воздуха толкнула Варламову в спину. Женщина покачнулась, инстинктивно попыталась ухватиться за железную скобу, торчащую из окна горящего чердака, но промахнулась – пальцы правой руки поймали лишь воздух. Правая нога Елизаветы Петровны заскользила по мокрой жести, левая запнулась о брезентовый рукав брандспойта. Она успела еще удивиться тому, как же глупо она падает, захотела встать, но поняла, что встать не может, опереться не на что, и следом настал ужас, беспредельный ужас и последнее отчаяние, когда, уже падая с крыши на мостовую, она увидела черное небо, пронзенное разноцветными трассами, а потом грязный асфальт Метростроевской, на котором валялись в кучах песка мертвые «зажигалки», сброшенные с крыш во время предыдущих налетов.
…Сергей, задыхаясь, одолевал пролет за пролетом. Старик оказался очень полным, а санитарка на «Скорой» — хиленькой, как веточка. В итоге транспортировка больного в машину заняла больше времени, чем показалось. Проклиная себя, Варламов влетел на крышу, где работали ребята и… остановился. Все расчеты смотрели на него, и в глазах у пацанов стояли слезы.
— Серега… — Вперед вышел Женя Лопухин. – Серег, ты это… Не уследили мы, короче.
— Что? – одними губами произнес Сергей.
— Лизавета Петровна…
Оттолкнув ребят, Сергей подбежал к краю крыши и заглянул вниз, в пропасть седьмого этажа. Там, внизу, стояла та самая «Скорая помощь», в которую он только что помогал внести старика. Теперь санитарка и шофер машины поднимали с асфальта распластанную на мостовой женщину с неестественно вывернутой головой. Живой человек лежать так не мог.
— Ее воздушной волной… когда «зажигалка» упала. Она, наверно, удержаться пыталась, но одной рукой не смогла… А мы спинами стояли, тушили все…
— Мама?.. – еле слышно прошептал Сергей, глядя вниз.
…Лысый майор в военкомате уже открыл было рот, чтобы привычно спросить «Ну что, не надоело ходить, аники-воины?», но взглянул в лицо юноше, стоявшему перед ним, и невольно умолк.
— Товарищ майор, прошу зачислить меня в ряды дно. Очень вас прошу…
— Случилось что? – помолчав, спросил командир.
— Так точно. Мать погибла во время бомбежки. Сегодня хоронили…
— А отец? – зачем-то спросил майор.
— Отец пропал без вести… Еще в июне.
Майор шумно вздохнул и потянул к себе розовый бланк повестки.
— Держи. Заполнишь сам и к шести утра с ложкой-кружкой-котелком. Эх, война-война…